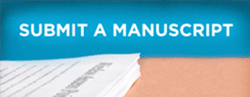Elena Rechkina: ”Group therapy is marching across Russia today in search of its rightful place”
- Authors: Kochetkova-Korelova O.V.
- Issue: Vol 5, No 2 (2025)
- Pages: 34-41
- Section: "I'm OK, You're OK"
- Submitted: 11.08.2025
- Accepted: 11.08.2025
- Published: 12.08.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/689034
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255234-41
- ID: 689034
Cite item
Full Text
Abstract
In this interview with transactional analyst Elena Rechkina, the challenges of conducting therapy groups in Russia are discussed. Why does individual therapy now prevail over group therapy in the transactional analysis community, originally developed as a modality for group work? Elena Rechkina reflects on the historical roots of group psychotherapy in the Soviet Union and post-Soviet space, recalling her training with Baltic teachers Rimantas Kočiūnas and Alexander Alekseychik. She explores how group dynamics in Russian psychotherapy differ from those in the West. Elena says that in the current historical moment, when so many changes are taking place in the world and in our country, it is group therapy that is capable of meeting deep human needs and hungers in the most holistic way.
The interview covers different types of group work and how they differ from one another: what therapeutic, corrective, and personal growth groups are. What skills and competences are essential for psychologists and psychotherapists for conducting group work. Who should not conduct groups and why. What is the difference between online and offline group for the therapist. What qualities should a psychologist possess and develop to begin conducting groups. Elena shares her own experience of working with groups and offers recommendations to novice group psychotherapists and consultants.
Full Text
— Лена, когда мы только договаривались об интервью, ты заметила, что нам важно отразить динамику групповой терапии в России, как наследие Берна и других основателей проявляется в этом направлении. Что ты имела в виду, можешь пояснить подробнее?
— Наша страна — удивительная в плане своего развития. И страна, и мы, и психотерапия — в целом и групповая в том числе — были за железным занавесом. Наши психологи не были никак связаны с мировым сообществом, а групповая терапия все-таки исторически родилась в Америке. И для нас достаточно долго групповая терапия была научно-естественной моделью, обязательно медицинской: все, что использовалось, применялось в больницах как клинический инструмент лечения людей. И в основном — в когнитивно-бихевиральном подходе. Потому что нужна была доказательная база. Впрочем, и вся психотерапия имела раньше сугубо медицинский доказательный характер.
Мы долго были отрезаны от того развития психологии и психотерапии, которое происходило на другой стороне земного шара. Более того, было скептическое и даже презрительное отношение ко всем западным методам — психоанализу и другим, — которые активно развивались в Европе и США. И естественно, это отложило свой отпечаток.
Когда открылся железный занавес, к нам приехали первые мэтры: Карл Роджерс, Вирджиния Сатир. Они были удивлены, насколько мы тут эрудированы, начитаны, умны, но при этом и наивны. Единственное, кто стоял особняком, — это Владимир Бехтерев и теория личности Владимира Мясищева, который говорил о том, что личность — это совокупность отношений. Он развивал групповую модель.
Таким образом, Ленинградская школа — единственная, кто придерживался какого-то другого мнения в нашей стране, и это был Мясищев. Сейчас существует институт Карвасарского, это последователи как раз теории Мясищева, и они развивают современную личностно-ориентированную модель групповой психотерапии.
— То есть в Советском Союзе фактически не было общепринятого теперь в сообществе понимания групповой терапии, верно?
— Получается, что так. Исключение — Ленинград. Потом, когда поехали западные мэтры в МГУ и ЛГУ, местные преподаватели стали приглашать зарубежных психотерапевтов и брать у них какой-то опыт — вот тогда началось хотя бы психологическое консультирование и пошло развитие. Из медицинской, узкой в нашей стране сферы, начала выходить групповая терапия. Но к ней еще было местечковое, презрительное отношение. Психология еще не была доказательной наукой. До сих пор между психиатрией и психологией есть конфронтация. Но где-то начиная с 1995-х годов, уже ближе к 2000-м, нас заполонили тренинги личностного роста американцев. Приехало также огромное количество наших людей, которые побывали за рубежом и увидели, как работает группа.
Феномен групповой терапии в принципе, открыл Якоб Морено со своей психодрамой. Первое сообщество групповых терапевтов было создано в 1942 году, во время Второй мировой войны. Потому что как раз тогда возникла потребность объединять людей, имеющих травматический опыт войны. Мы знаем о том, что основатель транзактного анализа Эрик Берн проводил сеансы групповой терапии в госпитале с военнослужащими, которые были на фронтах.
— Выходит, использование эффекта групповой терапии началось не так давно — со Второй мировой войны. Тренинги 90-х, о которых ты говоришь, это другая история.
— Да. И это было небезопасно, предполагаю. У тренеров конца 90-х — начала 2000-х был такой маркетинговый ход. Ты сначала студент, потом ассистент, а потом ты тренер. Ты проассистировал 3-5 тренингов за деньги, а потом ты становишься тренером и садишься в тренерское кресло. Знакомство с групповой динамикой произошло именно тогда. И это совсем небольшой срок. То есть популярность групповой терапии началась где-то с конца 90-х. В институте Карвасарского, который отделился от Бехтерева, предлагали свою модель лично-ориентированной динамической группы. И еще раньше у нас была прибалтийская школа — Римантас Кочюнас и Александр Алексейчик. Они тоже учили методу групповой психотерапии уже психологов, не врачей. Там был предмет «Групповая психотерапия». На Западе это началось гораздо раньше. Они к этим феноменам, к которым мы в нашей стране приходим сегодня, пришли давно.
Пространство терапевтической группы в центре на улице Покровка (Москва)
— Но у нас сейчас есть программы обучения групповой психотерапии.
— Да, есть очень интересные программы в различных институтах, в которых дают что-то вроде вводного курса, в котором по чуть-чуть отовсюду. Но структурированных знаний, глубоких, целостных и системных нет, я не нашла ни одной программы, хотя специально искала, когда готовилась к нашему разговору. Во всех варьируются методы и формы подачи материала. То есть единого стандарта, как, например, в клинической психологии или консультировании, по групповой терапии, как это было у Кочюнаса, нет. Институт Карвасарского тоже предлагает обучение только своей модели.
Поэтому развитие групповой терапии в нашей стране еще требует внимательного отношения к подготовке каких-то стандартизированных программ, на мой взгляд. Исходя еще из того, что люди не до конца имеют представление о результатах.
— Люди — ты имеешь в виду профессионалов или клиентов?
— Я сейчас говорю и о тех, и об этих. То есть в каждом методе сейчас, в каждом направлении психологии: гештальтерапия, телесная терапия, транзактный анализ, психоанализ — везде стали использовать методы групповой терапии. Там есть этика, конфиденциальность — то, что базовое вообще во всей психологии. Но каждый придумывает свои правила. Нет единых правил для того, чтобы вывести общую линию, как обучиться групповой психотерапии. Когда ты попадаешь в какую-то модальность, каждый тренер предлагает свою модель. Я почему так говорю? Потому что я бывала и училась как раз в абсолютно разных направлениях. И у разных психотерапевтов проходила свою личную групповую терапию — за рубежом и в нашей стране. Единственное, где мне удалось поучиться полноценно, это в Прибалтийской школе у Кочюнаса и у доктора Алексейчика, который показывал, как клинически работать в групповом формате. И в институте Карвасарского. Там тоже показывали, как работает лично-ориентированная динамическая модель. Все это меня наводит на мысль, что должна создаться какая-то собственная школа в нашей стране, некое сообщество групповых терапевтов, которые могли бы.
— И это могло быть сообщество, которое объединило бы разные модальности, правильно я тебя понимаю?
— Я думаю, что да. Это какая-то надмодальная, самоорганизующаяся и саморегулирующаяся структура. При этом нам всем на 202 курсе рассказывают о том, что Берн изначально создавал ТА как групповой метод. Но в основном все ушли в личную терапию.
— Может быть, это особенность нашей общероссийской групповой динамики? Чем она отличается от западной?
— Я думаю, тем, что пока нет какого-то сообщества, чтобы там собрались люди, которые занимаются группами. Для сдачи экзамена на СТА обязательным является наличие опыта групповой работы. А есть коллеги, с которыми я сталкиваюсь, и для них это всегда какой-то страшный вызов. Как будто бы это не то, на что и должен ставиться акцент в ТА. В нашей стране на это акцент не ставился. Хотя все обучение в ТА — групповое, оно построено так, чтобы был контакт, были взаимоотношения между людьми, через которые ты можешь посмотреть на свои трудности, как личности, в своем продвижении. То есть все изначально было выстроено по групповому формату. Но каким-то образом в нашей стране групповая терапия оттеснилась индивидуальной. Я думаю, это было связано с тем, что у нас гуманистическая позиция в принципе не поддерживалась. И здесь я возвращаюсь к тому, с чего начала. То, что заметили Роджерс и Сатир, что мы все образованы, но достаточно одиноки. В основном у руля стояли врачи, которые говорили: вы не отучились 7 лет, не прошли то-то и то-то. Мы только можем называться психотерапевтами. А формально психотерапевт — человек с медицинским образованием.
Мастер-класс по групповой терапии в Москве
Мастер-класс по групповой терапии в Санкт-Петербурге
— Мне кажется, мы в России, в Советском Союзе по крайней мере, очень перекормлены коллективизмом и группами, где потерялось наше «Я». И сейчас как будто идет декомпенсация этого довлевшего долгие годы «мы». Может быть, маятник в одну сторону качнулся, и сейчас он качнется в другую сторону, и, возможно, появится что-то такое, о чем ты говоришь. Почему группы нужны и зачем групповая терапия?
— Я думаю о том, что групповая динамика инициирует все лучшее в человеке. Я думаю о том, что там закрывается очень много голода: и по стимулам, и по развитию, и по структуре. В общем, люди всегда собирались в группы и всегда это имело огромную ценность. Каждая из форм, которые может предоставить групповая терапия — группы поддержки, группы развития, группы личностного роста, лечебные группы, — каждая может закрыть определенный голод, который сейчас есть в нашей стране, который мы слышим на приемах. Люди приходят и говорят о своем экзистенциальном голоде, отношенческом голоде, голоде реализации, которые без отношений невозможны. И мне бы хотелось говорить о том, чтобы групповая работа приобрела популярность.
— В данном случае ты выступаешь как амбассадор групповой терапии.
— И как человек, съевший на этом собаку и столкнувшийся с тем, что сейчас налицо некие объективные обстоятельства, которые нам всем нужно сообща преодолеть. Мы сейчас этим разговором поднимаем проблематику, что люди и групповая терапия — это очень важные компоненты, может быть, сейчас даже важнейшие. Это абсолютно то, что помогало во все времена. Когда изначально клиенты приходили за изменениями, а в ковид и во время других серьезных потрясений последних лет обнаружилось, что людям нужна нормализация их чувств, отражение от других и понимание, что и с другими это происходит. В группе инициируется огромное количество человеческого потенциала.
— Наверное, это про нашу потребность принадлежать и разделять опыт.
— Абсолютно. У нас в России особенно обострена эта потребность принадлежать. Возможность собраться в кругу людей, где поначалу кажется, что у всех разные запросы, а потом оказывается, что у них есть что-то общее, общий голод, который они, возможно, даже не могут объяснить. Они приходят в группу и говорят: ой, я не знаю, что это, но я хочу попробовать. В процессе что-то рождается, и люди создают контакт. Из-за того, что происходит в групповой динамике, меняется их внешняя жизнь, улучшаются их продуктивность и отношения в семье. Потому что у них появляется круг единомышленников. Вообще это большая социализация общества в целом. Люди приходят и говорят: я хочу найти такое сообщество, где можно поговорить.
Елена Речкина после семинара в Санкт-Петербурге
Елена Речкина ведет группу для сотрудников Нижегородского Женского Кризисного Центра
— Причем явно поговорить не о том, что какие-то обновки купили себе. Это другой уровень разговоров. Говорить о своем внутреннем мире.
— Да, это про потребность говорить о своем внутреннем мире в безопасном месте, где есть правила, где есть границы, которые нужны нам всем. Поэтому я думаю, что групповая терапия шагает по России, шагает в поисках своего законного места. Поэтому она стала развиваться во всех направлениях. Даже в тех, в которых она раньше не была. Даже в психоанализе, в котором Фрейд не понимал групповую терапию. Анализ — это же очень индивидуально. А сейчас есть и психоаналитические группы. Групповая терапия набирает обороты, и хотелось бы, чтобы она была признана. А мы, как транзактные аналитики, в послании от нашего мэтра вообще должны к ней относиться с глубоким уважением, чего я, увы, не замечаю в нашем сообществе. Надеюсь, после этого интервью что-то начнет меняться. Потому как я собираю мастер-класс по работе в группах, и если на мой мастер-класс соберется 10 человек, это уже хорошо. Понятно, что у людей есть много страхов по этому поводу.
— Возможно, страхи от отсутствия информации. Например, о форматах групп. Может быть, ты дашь реперно, какие бывают группы?
— Есть группы лечебные. Если звучит слово «терапия», это группы точно лечебные, где собираются люди, имеющие какие-то психические или невротические проблемы. Они собираются вокруг какого-то своего диагноза, допустим какого-то своего невроза. Они получают психотерапевтическую помощь для изменения личности, по поводу внутриличностного процесса. Там должен работать уже психолог с психотерапевтическим подходом. У нас есть в транзактном анализе направление психотерапии.
Другое направление — это психокоррекционные группы. Это группы психологического консультирования, в которых собираются люди, имеющие сложности в межличностном контакте или проблемы, возможно, в какой-то из областей социальной адаптации. Например, какие-то трудности с устройством на работу или взаимодействием с коллегами. В группе происходит обучение новым навыкам взаимодействия другого уровня.
Есть группы личностного роста, где люди собираются для того чтобы развиваться. Туда приходят абсолютно здоровые люди, имеющие потребность узнать себя с какой-то другой стороны, желающие получить новый опыт во взаимодействии. Они не приходят решать какую-то одну проблему. Они приходят потому, что в моменте им не хватает информации, например, как это можно сделать, способа, где можно этому обучиться. Потому что дети и взрослые учатся по-разному. И взрослым обязательно нужны какие-то личные вопросы. Без них, в принципе, невозможно. Сюда же входят всякие тренинги и группы самопомощи. Например, психологи собрались и организовали группу дебрифинга. Это может быть и самоорганизующаяся какая-то группа, где каждый берет роль ведущего; это может быть и кто-то, кто взял на себя такую роль. Я тебе обрисовала три больших кластера групп: лечебные, где происходит сама по себе терапия, где идет изменение личности; психокоррекционные или консультирующие, где решают межличностные проблемы человека в адпатации; тренинги личностного роста, группы новых навыков, социального взаимодействия, группы самопомощи.
Выездной тренинг для сотрудников Нижегородского Женского Кризисного Центра
Елена перевозит группу на остров, чтобы глубже погрузиться в себя и найти ресурсы в выездном марафоне «Группа как инициация»
— Во время обучения на 202 курсе у нас была группа сопровождения. Это на какую полочку положить?
— Изначально это была группа по эмоциональному отреагированию. Я думаю, во второй кластер — в область психологического консультирования, потому что, конечно, она у нас уже стала терапевтической, лечебной, так скажем. Но эта цель не стояла первой. Больше стояло эмоционального отреагирования вокруг огромного количества материала, который не может не влиять на жизнь взрослого человека, когда он учится. Он этот материал пропускает через себя, что влияет на качество жизни и понимания. Поэтому в программе созданы были такие группы эмоционального отреагирования материала. Но они приобрели более широкий характер, потому что психологи — люди интересующиеся, развивающиеся. И раз они пришли учиться, как лечить, им нужно самим сначала вылечиться в этой профессии.
— Наше обучение, моей группы, попало в самую турбулентность: сначала пандемия, потом СВО и санкции. И это все только извне, не говоря уже о внутренних процессах, которые поднимаются во время обучения ТА. Я не знаю, на какую еще группу, какого поколения обучающихся такое выпадало.
— Абсолютно с тобой согласна. Поэтому терапевтическое сопровождение было необходимо, чтобы остаться в профессии, чтобы самим быть напитанными, чтобы можно было пойти и начать практиковать с другими людьми. Я считаю, что задача групповой психотерапии — поднять ресурс человека, его способности, показать ему его силу и изменить какой-то паттерн, допустим, который был в семье. Потому что группа в принципе становится как семья , если она имеет формат более одной встречи. Она создает микрокосмос, модель общества и отчасти модель семьи.
— Что считать группой? Сколько там должно быть человек минимум? Какой должна быть длительность группы во всех трех кластерах?
— Я думаю, лечебная группа начинается от 6 человек и чаще закрытая, то есть новые участники не приходят. Хотя, например, если она в рамках клиники, то она может иметь характер нескольких встреч. Если человек лежит, допустим, в клинике неврозов, и там проходит групповая терапия. Там постоянно действующие группы, в которые новый участник может влиться. Малая группа должна быть от 6 человек и до 15. До 30 — это уже большая группа. 30 — максимальная цифра, на мой взгляд, когда можно удержать внимание.
Длительнее всего считается все-таки группа лечебная, потому что внутри личности невозможно измениться так быстро. Вторые — это группы психокоррекционные, психологического консультирования. Они могут быть направлены на решение какого-то одного запроса, одной задачи. Они занимаются, пока эта задача в группе не решена у каждого из участников. Например, это может быть от 5 до 7 или до 10 встреч. И группы, где собираются здоровые люди, — это группы личностного роста, они могут быть не такими длительными, все зависит от поставленной цели. Это может быть разовый тренинг личностного роста. А могут быть периодические встречи, о которых договорились с участниками.
— Для сдачи экзамена на СТА какая из этих групп подойдет?
— Если ты идешь сдавать CTA как психотерапевт, то лучше лечебную. Но психокоррекционная и психологического консультирования тоже подойдет, потому что она близка к лечебной. В ней можно увидеть все феномены, которые есть в групповой динамике в лечебной группе. Там тоже будут стадии развития группы. И нужно будет отразить свои знания и понимание: как группа начинается, как она проходит, что с ней происходит и как она завершается. Тебе нужно в любом случае иметь это в своём арсенале, когда ты идёшь на сдачу экзамена. Тебе нужно показать, что ты понимаешь, как это работает.
Очень символичная фотография о групповой динамике и инициации объединения: снимок с конференции Ричарда Эрскина в Милане “The Healing Relationship: Body, Mind & Sprit” (23-24.03.2017), где все ТА-шники ждут папу Римского вместо обучения. На фото можно узнать Елену Речкину, Ольгу Тучину и Marye O’Reilly-Knapp (TSTA)
— Кому нужно и можно в группу? Какой нужен ценз для допуска — прохождение личной терапии до начала группы или в процессе? Есть какие-то противопоказания и табу, кому точно не надо в группу?
— Начнем с того, кому нужно. Первым критерием отбора должна быть мотивация. Ты разговариваешь с человеком, и он говорит: мне интересно. Групповая терапия нужна людям, имеющим сложности в межличностной коммуникации и не имеющим возможности где-то с кем-то познакомиться. Для них это имеет огромное потенциальное значение, потому что любая из этих групп — это тренинг умений, в том числе и в коммуникации. Необходима групповая работа людям с различными сложностями в контакте. Людям с невротическими симптомами групповая терапия помогает увидеть, как это работает в обществе и как люди на это реагируют. И тогда есть возможность соединиться с этим симптомом и понять, какую роль он играет. Я думаю, что критериями отбора служат задачи, которые стоят перед группой, и задачи психолога, консультанта, психотерапевта, которые он ставит, изначально собирая группу. То есть, что бы он хотел получить в результате. Я считаю, что нужно обязательно консультировать людей перед групповой терапией, для того, чтобы дать им понимание, что там происходит. У людей должно быть представление об этом. О том, что там есть правила и границы. О том, что там есть конфиденциальность. Люди об этом не знают.
Эта нормализация изначально очень сильно зависит от личности психолога, психотерапевта, консультанта, который будет рассказывать о группе как об уникальном опыте, который позволяет изменить модели поведения, структуру мышления, увидеть, если языком транзактного аналитика, свои игры, ограничения и дефициты. И самое главное о том, что ты утолишь голод. Ты получишь поглаживание, ты получишь признание своей сложности и уникальности. Ты получишь это признание, которое не так легко найти в этом мире.
Ограничениями могут быть серьезные психические заболевания, которые поставит психиатр. Грамотный психолог, даже если он психолог-консультант, обязательно проходил патопсихологию. В патопсихологии есть линейка от здоровья до психоза. При отборе в свою группу необходимо обязательно консультировать человека о его цели, смотреть на его тип личности для того, чтобы не произошел какой-то коллапс. И с самим человеком, и с группой.
— Есть противопоказания для психолога? Какому психологу не стоит вести группу?
— Сексуально озабоченному, непроработанному, с выраженным уровнем пограничного функционирования, с ярко выраженными нарциссическими чертами, с низким уровнем эмпатии. Депрессивному, который не способен выдержать радости и эмоции других людей. Высоко экзальтированному, у которого присоединение чрезмерно, где нельзя сделать какое-то адекватное отражение. Но еще тому, кто не способен выдержать гнев, критику и негативный перенос, который случается, я думаю, во всех трех группах.
Тут важно сказать про то, что в нашем историческом наследии нужно быть как все. А тебе, психологу и психотерапевту, в этой позиции надо быть не как все, тебе надо принять все, но оставаться при этом собой. Здесь уже речь про личность психолога.
Ему нужна смелость спросить себя: почему я веду группу, что я получаю, какие потребности я удовлетворяю? Быть примером для участников. Это очень важная история, потому что ты должен понимать, какую бы из групп ты ни начинал вести — лечебную, коррекционную или тренинговую, — ты в любом случае ориентир. Тебе нужно быть ориентиром в том, что ты делаешь. Позиционировать себя именно как человека, который живет в тех правилах, о которых он говорит. Эмоциональное участие в группе — это тоже обязательная история.
— Когда психолог может всплакнуть или посмеяться вместе с участниками?
— Да, я думаю, живое проживание чувств в моменте, когда людям это необходимо. То есть показать свою живость, показать то, что ты понимаешь, о чём говоришь, умение эмоционально присоединиться. Но не только эмоциональное участие. Личная сила обязательно нужна, где ты демонстрируешь, например, какой-то стоп в неком процессе, который может развиться между некоторыми участниками. Может начаться конфликт. Нужно проявить личную силу, в которой ты говоришь: «Так, сейчас мы останавливаемся. Потому что у нас здесь другая задача. Никто не прав, никто не виноват». Для этого нужна личная сила. Потому что некоторые люди боятся конфликтов.
Важно умение принимать агрессию. А еще нужно стремление к новому опыту. Ты как психолог понимаешь: не только ты кого-то учишь, но и тебя постоянно учит группа. Это обновление, стремление к новому опыту, познавать себя через это знание и самопознание, постоянное теоретическое развитие, собственная групповая терапия, супервизия. Новое обучение, освоение какого-то нового способа и другого стиля. Ну и в том числе постоянное тестирование своей мотивации. Чувство юмора обязательно. Находчивость. Это тоже обязательно. Потому что в каких-то ситуациях тебе необходимо проявить креативность. Я думаю, что это основные вещи.
— Лена, как ты относишься к тому, чтобы собирать группы из индивидуальных клиентов? Ведь у всех разное начало, разная длительность работы в личке. Когда они появятся в группе, будет запущена не только динамика групповая — обычная, классическая, но еще и сиблинговая история.
— Она будет запущена ровно у того, у кого она есть. И это имеет огромное значение для тех, у кого не было такой динамики. Так как я училась изначально в классической школе, все преподаватели и те тренеры, которые были знакомы с Эриком Берном, у которых я тоже проходила свой личностный тренинг по транзактному анализу, они нас так и учили — создавать группы из своих клиентов. Вы многое прорабатываете в индивидуальном формате, а дальше вы смотрите, когда человек готов к групповой терапии, и вы его туда отправляете. Я группы стала вести практически сразу. У меня был такой опыт, и, на мой взгляд, он был очень позитивный. Но я не знаю, как это было у других коллег, поэтому не готова масштабировать.
— Как ты относишься к онлайн-работе с группой?
— Я думаю о том, что в современном мире невозможно без онлайн-формата. Он уже занял свое место. Уже есть люди, кто изучает феномены работы в скайпе, работы в онлайн-эфире и групповую работу онлайн в том числе. Я думаю, работа онлайн сложнее, чем работа офлайн. Потому что тебе нужно так внимательно и пристально настраиваться на группу, ты не можешь почувствовать запахи, увидеть движение всех. Это вообще ювелирная работа. Непросто держать динамику: тебе не хватает осязания, запахов, энергетики, которые есть в офлайн-процессах. Те, кто идут в это, в основном не собирают большие группы. У них преимущественно малые группы, 5-6 человек, а то и меньше. Напряжение у терапевта, который работает онлайн, гораздо выше, чем у терапевта, который работает офлайн. Потому что терапевт влияет, и на экране тебе нужно следить за своей мимикой, следить за мимикой других, для того чтобы всё это охватить. Там же так много нюансов, которые ты держишь в голове одновременно из своего наблюдающего эго, чтобы понять, что происходит в группе. Но я в онлайне работать с группой не хочу. Я знаю, какова работа онлайн в личной терапии с теми, кто живет за рубежом, в разных странах. Это хорошая работа, но от нее устаешь гораздо больше, чем от очной.
СПРАВКА ЖУРНАЛА «ТА В РОССИИ»
Елена РЕЧКИНА
Практикующий психолог, Сертифицированный Транзактный Аналитик в области Психотерапии. Изучает и практикует ТА с 2005 года. За ее плечами более 1300 часов профессионального тренинга, 550 часов супервизии с мастерами ТА со всего света, которые, несомненно, повлияли на ее становление как профессионала.
Постоянно ведет группы 23 года. Это были лечебные группы в ННЦ Наркологии; коррекционные и обучающие навыкам эмоциональной грамотности как для зависимых, так и для клиентов с невротической симптоматикой; образовательные и познавательные в обучающих институтах; группы личностного роста; группы эмоционального сопровождения при прохождении 202 курса ТА; терапевтические группы для своих клиентов, тематические группы по запросу; самоорганизованные группы для психологов; группы поддержки и профилактики эмоционального выгорания для коллективов, работающих в помогающих профессиях. Последние два года проводит обучающие мастер-классы для коллег «Искусство группового терапевта. Мифы и реальность», по окончанию которых коллеги начинают вести собственные группы.
ШПАРГАЛКА ПСИХОЛОГА
Лайфхаки для тех, кто хочет вести группы
- Самое главное — это понять свою мотивацию, понять свою потребность, что ты хочешь донести людям. Для того чтобы выбрать, какую группу ты будешь вести. Можно начать с каких-то тематических групп. Это тоже прекрасный формат. Допустим, про одиночество, женственность. На это тоже собираются люди. Можно начать с какого-то информирования, с какого-то лоббирования интересов транзактного анализа. Пожалуйста. И это действительно прекрасно. И в этом много ценности, в том числе и терапевтической. Может быть, не надо сразу идти в решение тупиков третьей степени. Я бы сказала о том, что начинайте со своих сильных сторон.
- Подумайте о том, в каком стиле вы работаете: демократическом, авторитарном, попустительском. Но подумайте, к чему вы склонны. Оцените себя по-взрослому, адекватно. И помните о том, что у людей есть много голода, что группа работает как инициация. Вы там получите что-то новое для себя. Вы столько много о себе познаете, если вы начнете вести группы. Это расширит ваш личностный потенциал как профессионала и как человека. Нас учат быть безоценочными, и групповая динамика расширяет эту компетенцию. Когда собираются разные люди, ты становишься еще более толерантным к тому, как люди живут свою жизнь. Ты можешь увидеть иную сторону в том, что для тебя было раньше неприемлемо, когда человек рассказывает свою историю. Я, помню, когда вела группы, работая в наркологии, меня научил один из клиентов. Я думала, он был мне не очень приятен. Но когда он открыл рот и начал рассказывать о своей жизни… Это было очень давно, но я до сих пор помню его и его историю, как она меня потрясла. И он меня спросил: «Больше не относишься ко мне высокомерно?» Для меня это было катарсисом, что я не имею право вообще осуждать.
- Заключайте сразу контракт с группой. Нужно обязательно оговаривать правила группы. Группа существует, пока вы посещаете. О пропусках: оплачиваются или нет. Обязательный административный контракт: правила входа и выхода, потому что у людей должны быть эти правила, они должны их знать и понимать. Тема сепарации и завершения — это важная история. Так же тема индивидуализации. Ты заходишь в какой-то одной роли, как человек, который еще не знает, что будет на выходе. У тебя должен быть способ выйти. Это нужно все обсуждать. Это должны быть четкие границы. Если мы говорим о группе людей, которые совсем не знакомы с психологией. Для них эти границы являются защитой. Это все, что укладывается в понятие «не навреди».
About the authors
Olga V. Kochetkova-Korelova
Author for correspondence.
Email: ok810@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5059-3455
The editor-in-chief of “Transactional Analysis in Russia”; private psychological practice, Masters degrees in Psychology; member of SOTA and EATA
Russian FederationReferences
Supplementary files