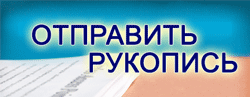«Наша работа по валидации теста JPAQ повысила показатели оригинальной версии Джоинса»
- Авторы: Кочеткова-Корелова О.В.1
-
Учреждения:
- Журнал «Транзактный Анализ в России»
- Выпуск: Том 5, № 1 (2025)
- Страницы: 47-56
- Раздел: "Я - О`кей, Ты - О`кей"
- Статья получена: 31.05.2025
- Статья одобрена: 31.05.2025
- Статья опубликована: 01.04.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/681786
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255147-56
- ID: 681786
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлено интервью с Юлией Полтавской — автором проекта по валидации и модификации теста-опросника личностных адаптаций (JPAQ) Вэнна Джоинса (аккредитованный обучающий транзактный аналитик ITAA, лицензированный клинический психолог, PhD, президент Юго-Восточного института групповой и семейной терапии в Северной Каролине, США).
Спикер рассказывает об этапах научно-исследовательского проекта «Опыт построения и психометрической апробации русскоязычной версии опросника личностных адаптаций (JPAQ)» в сотрудничестве с автором опросника В. Джоинсом.
Автор оригинального опросника отслеживал все этапы валидизации профессиональной лицензированной версии теста на русском языке (лицензиаты модификации русскоязычной версии — Вадим Петровский и Юлия Полтавская).
Проект велся под научным руководством профессора департамента психологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики», профессора НИУ ВШЭ, члена-корреспондента Российской академии образования (РАО) Вадима Артуровича Петровского.
В интервью Юлия Полтавская подробно объясняет, как проходила выборка респондентов. На разных этапах валидизации теста в тестировании участвовали 300, 850 и 1500 человек. Проводилась трехэтапная модификация теста с обратным переводом; методика проходила ретестовую проверку на валидность в постоянно работающей фокус-группе из 343 человек.
Для исследования внутренней структурной валидности использовались методы математической статистики, в частности: современные способы факторного анализа (структурное моделирование ESEM [Exploratory Structural Equation Modeling]), а также усовершенствованные индексы надежности — такие индексы измерения, как альфа Кронбаха, омега Макдональда, GLB (Greater Lower Bound [GLB] reliability).
Психометрическая апробация опросника проводилась при участии кандидата психологических наук, доцента департамента психологии, заместителя заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Евгения Осина. По коэффициенту альфа Кронбаха адаптированный тест получил показатели от 0,61 до 0,78, по индексу GLB — от 0,74 до 0,84. Также была проведена внешняя валидация (оценка конвергентной и дискриминантной валидности) с использованием двух методик: индивидуально-типологического опросника (ИТО) Людмилы Николаевны Собчик и опросника личностных убеждений А. Бека PBQ (Personality Belief Questionnaire) в адаптации Е. Рассказовой. Работа над проектом велась по стандартам, предписанным Международной тестовой комиссией (International Test Commission [ITC]).
Полный текст
— Юля, расскажите, как вообще возникла эта идея — провести валидацию теста, которому уже больше двух десятков лет?
— Я заинтересовалась личностными адаптациями в процессе своей учебы на магистерской программе в «Вышке» — «Транзактный анализ и мультипрофильное консультирование» — под руководством Вадима Артуровича Петровского. Он и до встречи со мной предпринимал попытки создания теста личностных адаптаций, говорил о нем: «Это — наш будущий “Магистерский тест”». Стремился приобщить студентов к его созданию. Но эти пробные варианты ни его, ни меня удовлетворить не могли. Между тем многие работы магистрантов были ориентированы на тестирование личностных адаптаций. Но только как тестировать, если теста, который можно было бы использовать, нет? Тест Вэна Джоинса, опубликованный в книге «Современный трансактный анализ» (2017)? Да, им пользуются многие специалисты, это очень популярный опросник, по которому проводится обучение. Однако не было нужной русской версии теста. Все это время мы имели невалидизированный инструмент в американской версии, переведенный на русский язык. В этой ситуации я зарегистрировала личный кабинет на сайте Вэнна Джоинса, прошла тестирование, но нигде не нашла информации о валидизации теста в переводе А. Гороховской, который активно используется коллегами. Нет нужды напоминать, что валидизированная методика — это не просто перевод вопросов: психологический опросник должен пройти психометрическую апробацию. Это — процедура последовательных проверок валидности и надежности методики, основанная на статистических измерениях. Важно понимать, как именно респонденты воспринимают контекст и смысл вопросов. Когда мы адаптируем методику, «живущую» в другом языке, мы прежде всего ориентируемся на кросс-культурное исследование. Нам нужно не просто перевести вопросы теста с одного языка на другой, необходимо еще удостовериться в том, что то, что мы перевели, действительно измеряет интересующий нас личностный конструкт, который мы хотим измерить.
Для этого нужно собрать хорошую репрезентативную выборку респондентов. У нас была большая выборка: от 300 до 1500 человек на разных этапах. Модифицировались формулировки вопросов, встраивались новые, какие-то из них отсеивались. Адаптированная версия должна была стать работающей — с минимальной погрешностью — именно на том языке, на котором будет использоваться.
— Получается, что это ювелирная калибровка.
— Именно. Такая калибровка и дает в конечном итоге хорошую валидность теста. Когда проводится статистическая оценка измерений, мы оцениваем не только надежность и внутреннюю структурную валидность (согласованность шкал между собой), но и обязательно смотрим внешнюю валидность, чтобы через другие похожие (эквивалентные) методики мы увидели сопоставимые корреляции. Внешняя (конвергентная) валидность показывает нам совпадения личностных конструктов в разных методиках (или, наоборот, ожидаемые различия — это валидность дискриминантная).
— В случае с тестом Вэнна Джоинса, насколько я понимаю, речь не только о чисто лингвистическом, но и о культурном и социальном контексте.
— Это действительно очень важный аспект: необходимо, чтобы формулировка вопроса соответствовала российской ментальности.
При соблюдении основных международных стандартов валидации и получении хороших результатов психометрической апробации переведенный тест-опросник в русскоязычной версии можно считать достоверной методикой.
— А какие вопросы были непонятны российским респондентам?
— Сами вопросы в целом были более или менее понятны, но ряд из них мы были вынуждены изменить со временем.
Например, оригинальный текст звучал так: I guard against getting abandoned. Это вопрос, измеряющий адаптацию «Очаровательный манипулятор». В первой редакции он был переведен следующим образом: «Я делаю все, чтобы меня не оставили и не отвергли (боюсь быть брошенным)». В результате именно в такой формулировке он не работал должным образом, создавая нагрузку на другие факторы (не измерял именно эту личностную адаптацию). Далее формулировка вопроса была пересмотрена. Итоговая редакция выглядела следующим образом: «Я принимаю меры предосторожности, чтобы меня не покинули и не отвергли (я боюсь, что меня бросят)».
Можно привести еще один пример, когда формулировка осталась без изменений, так как полностью соответствовала заданной адаптации «Яркий скептик». Оригинальный текст: I get angry when people don't measure up. Первая редакция: «Меня злит, когда люди ведут себя несообразно своему положению». Итоговая редакция: «Меня злит, когда люди ведут себя несообразно своему положению».
Еще один пример: I hold back my excitement. Первая редакция: «Я сдерживаю себя, когда воодушевляюсь чем-то». Итоговая редакция: «Я сдерживаю себя, когда взволнован чем-то». Из примера видно, что в русском контексте работающей формулировкой для измерения адаптации «Творческий мечтатель» оказалось именно слово «взволнован». Такие нюансы и оттенки интерпретации важны.
Сначала я занималась апробацией методики в рамках своей выпускной квалификационной работы. Моим научным руководителем был Вадим Артурович Петровский. Позже это вылилось в большой исследовательский проект по развитию модели личностных адаптаций.
— Для валидизации вы приглашали ведущих экспертов в психодиагностике и статистических измерениях в психологии. Людмила Николаевна Собчик — без преувеличения ведущий эксперт в области психодиагностики и валидизации тестирования в России.
— С Людмилой Николаевной Собчик меня познакомил Вадим Артурович Петровский. Людмила Николаевна — легендарный учёный, гуру валидации в России. Именно она в свое время перевела и модифицировала знаменитый MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory — Миннесотский многофазный личностный опросник). Это один из самых известных и используемых в мире психодиагностических инструментов.
Людмила Николаевна также заинтересовалась моделью личностных адаптаций, и мы решили использовать одну из ее методик для измерения внешней валидности русскоязычной версии JPAQ.
Анализ конвергентной валидности — это основополагающий принцип оценки конструктной валидности. Конвергентность в данном случае показывает соответствие и взаимосвязь между похожими конструктами (или методиками).
Мы остановились на двух методиках, которые существенно отражают интересующие нас корреляции в связи с измерением адаптивных стилей личности. Одной из этих методик был выбран индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик.
Он выделяет и диагностирует 8 характерологических свойств, которые отражают структуру личности: экстраверсия — интроверсия, спонтанность — сензитивность, агрессивность — тревожность, ригидность — лабильность.
Описание черт личности, используемое в методике ИТО, на наш взгляд, может быть совместимо с моделью личностных адаптаций. Одна из гипотез состоит в том, что теория, описывающая влияние на формирование личности биологических и генетических факторов (тип нервной системы и темперамент), может также описывать подобные тенденции при формировании черт личностных адаптаций.
Также важно отметить, что именно на этом этапе с нами начал сотрудничать Евгений Николаевич Осин, сильнейший эксперт в области разработки психодиагностических инструментов. Наша работа проводилась в соответствии со всеми правилами и стандартами, предписанными Международной тестовой комиссией, с использованием современных способов оценки психометрических характеристик личностных опросников.
— Правильно ли я понимаю, что просто взять и перевести текст самостоятельно или с помощью Google Translate или «Яндекс» — это не значит адаптировать его на русский язык?
— Конечно, нет. С точки зрения научного подхода такой способ не является корректным. Приведу пример. Когда мы занимались переводом клинического руководства по оценке и интерпретации результатов теста JPAQ, мы нашли очень интересную и существенную разницу. В клиническом руководстве к оригинальной версии теста описаны американские поговорки, которые русскоговорящие люди могут не понять. Мы тщательно искали и выбирали из возможных вариантов тот, который максимально подходит по смыслу и соответствует менталитету.
Приведу два примера. При описании адаптации «Ответственный трудоголик» авторами была использована следующая американская поговорка: Idle hands or an idle mind is the devil's workshop. Дословный перевод: «Пассивные руки или бездействующий разум — мастерская дьявола». Нами был использован наиболее корректный вариант русского аналога американской поговорки: «Праздность — кузница порока».
При описании адаптации «Творческий мечтатель» автором были приведены выражения: To fade into the woodwork (сливаться с фоном); Keep a low profile (не привлекать внимания); And not make waves (не пускать волны). Был осуществлен перевод фразы в контексте: «Поэтому они научились не привлекать к себе особого внимания, держаться в тени и “не раскачивать лодку”».
В клиническом руководстве приводятся примеры для каждой адаптации среди известных персон — все или английские, или американские. И нам нужно было найти подходящие типажи в России. Если, например, мы в России хорошо знаем Дональда Трампа как яркого представителя личностной адаптации «Очаровательный манипулятор», то существуют и другие примеры, менее известные россиянам. Мы специально создавали запрос в нашей фокус-группе из 340 человек, чтобы проработать примеры наиболее подходящих ролевых моделей личностных адаптаций. Это были герои кинофильмов, литературы, истории, мультфильмов и так далее.
Наша постоянная фокус-группа состояла из 340 человек; это были одни и те же люди, которые работали на протяжении всего процесса валидации и проходили несколько модификаций теста. Это необходимо для того, чтобы мы понимали, что тест измеряет одно и то же. Это называется ретестовой проверкой (ретестовая надежность в психологии показывает устойчивость результатов теста и возможность получения одинаковых данных у испытуемых в различных случаях. — Ред.).
— Вы предлагали какой-то список типажей для выбора, или люди сами накидывали идеи?
— Мы собирались — не всей фокус-группой, а с теми, кто мог, кто отозвался, около 30 человек, — в Zoom и в режиме брейншторма обсуждали, кто же у нас яркий истероид («Чрезмерно реагирующий энтузиаст») или шизоид («Творческий мечтатель»). Особенно интересно это делать на примере кинофильмов, потому что там действительно яркие типажи.
— Это ведь очень масштабная работа, судя даже по тому, что Вы рассказываете.
— Безусловно. Но я всегда любила масштабные проекты. Мне это очень интересно. Я люблю изучать типологию различных людей и часто применяю психодиагностику в своей практике с клиентами. Мне так легче ориентироваться. Более того, одна из моих специализаций — профориентация подростков и взрослых, и я работаю как профориентолог достаточно давно, используя различные тестовые методики в своем арсенале. «Голод по структуре» (в терминах Берна) — мой ведущий. Я люблю, когда мне все понятно про клиента. Кроме того, я как истинный представитель своей адаптации люблю все новое и драйвовое. Люблю прокладывать новые пути и создавать новые продукты. Я понимаю, что эта ниша не исследована так, как она может быть исследована, и как это интересно развивать дальше.
— Правильно ли я понимаю, что то, как исследуете эту модель вы (я о личностных адаптациях), до сих пор не исследовали?
— Вэнн Джоинс в свое время написал мне, что опросник JPAQ на текущий момент переведен на японский, корейский, китайский и другие языки, но данных о проведенной валидации я пока не находила. В нашем исследовании мы получили не только работающий валидизированный инструмент, но и массу уникальных и интересных данных о матрице корреляций, а также о внутренней связи шкал адаптаций между собой.
Теперь мы наконец-то можем проводить корреляцию с другими методиками, например, с тестом Розенцвейга (проективная методика, предназначенная для исследования реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, которые мешают самой деятельности или удовлетворению потребностей личности; тест был разработан американским психологом Саулом Розенцвейгом в 1945 году. — Ред.) или с тестом «Большая пятерка» (пятифакторный личностный опросник, разработанный американскими психологами Р. МакКрэй и П. Коста в 1983–1985 годах; в России адаптирован кандидатом психологических наук Анатолием Хромовым в 1999 году. — Ред.). То есть можно увидеть столько нового и потом применять это в работе, давать терапевтам новые методики для практики.
— Можете обозначить основные этапы работы с момента возникновения идеи валидации теста личностных адаптаций? Что еще предстоит? Чтобы коллеги, наши читатели, может быть, те, кто задумывается о валидации других методик ТА, понимали масштаб.
— Согласно нормам Международной тестовой комиссии (https://www.intestcom.org/), если жив автор (правообладатель), у него есть лицензированное авторское право, оформленное на его продукт, мы обязаны получить разрешение на валидацию. Первое, что я сделала, — написала письмо Вэнну Джоинсу с просьбой о разрешении на валидацию его методики. В письме я показала предварительные результаты работы, проведенной еще на первом курсе, и он лестно отозвался о промежуточных результатах исследования. Уже на первом этапе модификации мы улучшили показатели оригинальной методики. После этого работа началась полным ходом, и мы подписали лицензионное соглашение.
— Что означает лицензионное соглашение, какие права оно дает?
— Это лицензионное соглашение, которое составляли наши юристы в России. Вэнн Джоинс дал нам официальное разрешение на перевод, модификацию, то есть изменение его тестовой методики, если это потребуется, и на реализацию ее в коммерческих целях.
Потом была проведена трехэтапная модификация: сначала был выполнен просто перевод, затем — обратный перевод. Обратный перевод — обязательное условие. Мы выбрали 10 человек, из которых как минимум половина — носители языка. Остальные имели уровень английского Advanced. То есть мы снова переводим текст с русского на английский и показываем уже этим 10 переводчикам. Они с английского переводят на русский, и мы анализируем совпадение смыслового контекста. Это очень интересно! Такой подход используется во всех межкультурных исследованиях, чтобы сразу понимать, какие вопросы переводятся неоднозначно. После этого у нас была выборка из 300 человек. Они прошли тестирование. Результаты мы обработали с помощью статистической программы и провели факторный анализ. Если объяснить упрощенно, это означает, что мы можем увидеть, насколько каждый из 72 вопросов точно измеряет то, что необходимо.
По итогам первой модификации, оценки надежности и факторного анализа мы выбрали вопросы, которые требуют изменений (улучшений). По итогам первого этапа модификации требовали замены 25 вопросов из 72. Далее мы снова тестировали тест уже во второй редакции на респондентах с измененными вопросами. Вторую модификацию — она продолжалась четыре месяца — проходило уже 850 человек. Я сама не ожидала такого интереса к исследованию.
— Какое минимальное количество участников нужно, чтобы провести факторный анализ?
— На этот счет существует множество различных мнений. Во многом это зависит от количества вопросов в тесте, от ожидаемой факторной структуры, но обычно минимально приемлемое количество — это 200–250 человек.
— А у вас было 300?
— У нас было 300, затем 850 и 1500 в финале.
— Чем вы объясняете такое большое число желающих пройти тестирование?
— Во-первых, это обусловлено большим интересом к теме. Во-вторых, мы сотрудничаем с самим автором (правообладателем). Кроме того, мы озвучивали информацию и объясняли ее людям: отправляли каждому респонденту результаты, рассказывали о них, проявляя бережность, терпение и лояльность. То есть это не просто: «Вот пройдите тест, а результаты вы не увидите». Нет, это был абсолютно индивидуальный подход: каждый видел свой результат. И самое важное здесь — это не количество людей, а качество. Именно качество выборки, ее репрезентативность показывают нам хороший результат и позволяют определить, как результаты наших измерений можно перенести на генеральную совокупность. Генеральная совокупность — это тот массив данных, о котором вы хотите сделать выводы.
Выборка является частью генеральной совокупности, которая непосредственно участвует в вашем эксперименте. Поэтому мы тщательно следили за гендерными различиями, возрастными диапазонами и другими параметрами состава участников.
— Это очень кропотливая работа!
— Абсолютно точно. На третьем этапе модификации мы сделали контрастные фокус-группы из числа людей, прошедших тесты и имеющих самые высокие показатели адаптаций «Чрезмерно реагирующий энтузиаст», «Яркий скептик» и т. д. Им были предоставлены вопросы, которые предположительно соответствуют их адаптации. Эти вопросы были видоизменены в нескольких вариантах, и респондентам предлагалось выбрать тот, который наилучшим образом им откликается. Это была экспертная работа Вадима Артуровича. Большая часть вопросов, которая требовала изменений, была разработана им. Он сделал это настолько потрясающе, что контекст вопросов с первого этапа идеально подошел. То есть люди с высокой адаптацией, например шизоидной («Творческий мечтатель»), получали на выбор 5–6 вариантов перевода одного и того же вопроса и отмечали, какой им больше откликается. Затем выбранные вопросы мы запускали в работу и проводили процедуру оценки надежности.
В итоге у нас получилось 116 резервных вопросов для проверки вместо 72. Из этих 116 вопросов были выбраны те, которые лучше всего воспринимаются респондентами и лучше всего работают. Предварительный этап перед третьей модификацией — полноценный анализ индексов надежности и подтверждение факторной структуры теста. На этом этапе мы проводили индексы соответствия модели (то, как теоретическая модель подтверждается эмпирикой) и получили очень хорошие показатели. Модель сошлась. Меня особенно радует то, что мы в каждой модификации опирались на законченное, оформленное исследование. Статистика не может обмануть: она точно показывает, где есть явные недоработки в результатах. В итоге у нас получились показатели выше среднего, но и они не являются идеальными, потому что идеальные значения коэффициента альфа Кронбаха для личностных опросников составляют от 0,7 до 0,8, а у нас — 0,7 и 0,6 для некоторых шкал. Однако наши показатели во многом выше, чем показатели оригинальной методики. Подтвержденная и более согласованная факторная структура сделала тест более точным в русскоязычной версии. Это показатель внутренней согласованности характеристик, то есть это оценка 4 с плюсом.
Есть такая международная организация, которая оценивает диагностические методики, проводит методологический разбор. У нее тоже есть свои требования. Она называется COSMIN (A center of expertise for outcome measurement instruments in health research and clinical practice. https://www.cosmin.nl/). И я надеюсь, что и COSMIN положительно оценит нашу работу, потому что она повысила показатели Джоинса.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о соавторах и вашей команде.
— Моя задача как организатора этого процесса заключалась в том, чтобы собрать команду лучших экспертов в области психометрии и кросс-культурных исследований, а также компетентных лингвистов-переводчиков. И я горжусь тем, что нам удалось привлечь к сотрудничеству лучших экспертов как в области модели личностных адаптаций, так и в области психометрической апробации личностных опросников. Соавторы: я и научный руководитель проекта Вадим Артурович Петровский; матстатистика — Евгений Осин; основной переводчик — Юлия Клэридж (она работала переводчиком в СОТА 10 лет); второй переводчик — Екатерина Ермишина-Мартюкова, а также наш легендарный помощник-администратор, техподдержка и наша служба заботы — Екатерина Гузь. Редактор клинического руководства для терапевтов, на текущий момент единственный в России Сертифицированный Тренер и Супервизор по терапии на базе личностных адаптаций — Наталья Лопатина. Все они согласились сотрудничать и работать на благо общей идеи.
— Вопрос, который я не могу не задать, касается финансов. Я правильно понимаю, что все это вы делали, не получая не получали никаких грантов или финансирования?
— Это был не грант, а энтузиазм. Я очень хотела сделать эту работу. И конечно же, энтузиазм Вадима Артуровича Петровского, который совершенно по-отечески вкладывался в мою работу, наверное, как ни в какую другую, потому что он тоже горел этим проектом. В «Вышке» до меня пытались несколько раз к этому подступиться, но никто не закончил работу. Я закончила. Мы с Вадимом Артуровичем завершили и выпустили этот проект.
— Профессиональное сообщество уже приняло этот опросник и использует его?
— Да, уже сейчас на эту работу опираются магистранты, аспиранты и другие люди, которые занимаются различными исследованиями. Они используют наш валидизированный опросник и понимают, что с помощью этого инструмента можно проводить научные исследования, на него можно опираться. Это хороший и точный инструмент.
Опросник JPAQ в русской версии используют терапевты, которые интересуются моделью личностных адаптаций, хотят учиться PFT-терапии и которым интересна вообще вся эта тема (в номере Том 4, № 3 2024 года опубликовано https://ta-journal.ru/TAR/article/view/642620 интервью об этом с Натальей Лопатиной. — Ред.). Люди, которые хотят заниматься организационной, командной или групповой терапией, находят, что через личностные адаптации можно очень хорошо протестировать команду и сразу же посмотреть на типы игр, на сценарный процесс, на групповую динамику. В последнее время семейные терапевты также проявляют большой интерес к этой теме, потому что сравнение адаптаций мужа и жены позволяет сразу понять, что примерно происходит в их отношениях.
Более того, мы убеждены, что этот тест может применяться не только в модальности транзактного анализа. На наш взгляд, в системной семейной терапии, коучинге, организационной психологии специалисты могут достаточно спокойно оперировать этой диагностикой. Если пройти 101 курс и получить общее представление о концепциях ТА, то вполне можно использовать и наш опросник; тем более скоро мы выпустим клиническое руководство для терапевтов-практиков по оценке и интерпретации профиля личностных адаптаций. Это большое 120-страничное издание с подробным описанием комбинаций адаптаций: описываются не только комбинации адаптаций 1+1, но и 2+2 (две адаптации для выживания и две адаптации для одобрения). Допустим, приходит ко мне клиент, и я вижу сразу, что у него высокая адаптация «Яркий скептик» и параллельно высокие адаптации для одобрения: «Игривый сопротивленец» и «Ответственный трудоголик». Я понимаю, как выглядит профиль этого клиента, какой у него был стиль воспитания, как с ним выстраивать диалог и план терапии. Безусловно, для более глубокого понимания модели личностных адаптаций важно разрабатывать различные дополнительные обучающие программы для специалистов.
— Кстати, какое название вам ближе — «Яркий скептик» или «Параноидная адаптация»?
— Мне близки оба варианта. В книге Джоинса (Вэнн Джоинс. «Сломай стереотипы: 6 личностных стилей — ключ к успеху и эффективным коммуникациям», СПб.: «Метанойя», 2024. — Ред.) также используются обе терминологии. Но так как мы сейчас все больше и больше склоняемся к тому, чтобы отразить модель личностной адаптации как норму, то я все-таки соглашусь с Натальей Лопатиной и с тем, что «Яркий скептик» не так сильно окрашен, как «параноид». Не все готовы такое определение услышать и применить к себе. Поэтому я понимаю Джоинса, когда он ввел другие, именно описательные названия. Он старался показать, что это просто адаптивный стиль коммуникации.
— Как понять, где еще норма, а где — уже нет?
— Это вообще предмет большой дискуссии, и до сих пор в рамках большого научного спора идет обсуждение того, что такое личностные адаптации. Адаптивный стиль может показывать нам как отрицательные, так и положительные черты. Наверное, мы можем сказать, что норма — это нахождение в определенном балансе с точки зрения адаптивного стиля, при котором отсутствуют зашкаливающие позиции. Например, если у тебя очень высокая параноидальность, ты из «Яркого скептика» начинаешь со всеми конкурировать и подозревать их, как ты думаешь, будет ли это нормой? То есть адаптивный стиль сам по себе отражает норму, но если он начинает развиваться и проявляет множество негативных черт, то это уже выходит за рамки нормы.
— С помощью теста можно понять, где «зашкаливает», а где сохраняется баланс?
— Да, безусловно, результаты теста покажут это. В книгах Вэнна Джоинса и клиническом руководстве для терапевтов есть описания негативных и позитивных проявлений каждой адаптации, а также выделены личностные черты, которые мы можем увидеть в комбинации той или иной адаптации: пограничные, нарциссические, избегающие или пассивно-зависимые.
В нашем описании результатов и в отчете мы подробно описываем как позитивные, так и негативные проявления каждой адаптации, а также зоны роста и ловушки, в которые могут попадать те или иные личностные адаптации. Именно для этого в нашей психодиагностической методике мы сделали то, что не сделал Вэнн Джоинс: обозначили нормативные интервалы. Это означает, что мы вывели относительную норму для проявления каждой адаптации и разделили их по гендерным признакам (отдельно для женщин и мужчин).
Для каждой личностной адаптации существует своя норма; она рассчитывается по специальной формуле с учетом выборки, на которой мы проводили исследование, и погрешности, которую мы имеем. Человек проходит тест и видит разные значения — низкое, среднее, высокое. Это позволяет ему понять, в каком диапазоне он находится. Для этого мы готовим к выпуску клиническое руководство для терапевтов и обучение PFT-терапии. Актуальную информацию мы выкладываем на сайт проекта https://tla-russia.com.
— Когда я проходила тест, то видела в результатах не только одно значение в виде целого числа, но еще и вторую колонку показателей — с цифрой после запятой. Для чего она?
— Да, мы сделали нормирование по стэнам. Стэны — это процесс перевода сырых баллов в стандартизированные результаты. Допустим, ваш результат по сырым баллам равен 10, а в стэнах — 9,2. Второй результат более точный. Обычно профессиональный тест обязательно выводится в стэнах, потому что именно стандартизированные баллы привязывают результат к нормированию. Это общепринятые статистические правила. В оригинальной методике JPAQ стандартизации и нормирования нет, а у нас они предусмотрены.
Зачем нужны стэны? У любой методики есть так называемая погрешность измерения. С учетом наших индексов надежности стандартная ошибка измерения составляет от 1 до 1,5 баллов. И здесь доверительные баллы могут пересекаться (взаимная выраженность адаптаций). Стэны как раз эту погрешность измерения учитывают. Они всегда показывают, что у человека проявлено относительно выборки и что выражено сильнее, а что слабее. Стэны выравнивают результат по разбросу и по среднему значению, поскольку мы ориентируемся еще и на то, на какой именно вопрос человек ответил «да», а не просто суммируем все ответы «да».
Евгений Осин (на мой взгляд, он один из лучших экспертов не только в России по математической статистике в диагностических инструментах) сразу сформировал правильную позицию: если не сделать и не показывать результат респондента в стэнах, то мы не сможем, во-первых, использовать нашу методику для сравнения с другими методиками (не будет ориентировки на то, что мы считаем высокими или низкими баллами), а во-вторых, не отразим существующую погрешность.
То, о чем мы сейчас говорили (перевод в стэны и стандартизированные баллы), является завершающим этапом проекта и представляет собой исключительно статистическую работу. И снова мы проверяли тест на выборке — уже 1500 человек. Эти результаты можно отлично экстраполировать на генеральную совокупность.
— Вы рассказали о внутренней валидации, а как проходила внешняя? Если я правильно понимаю, авторам теста нужно сравнить его с другой, уже подтвержденной близкой методикой. Как ее выбирать?
— Да, это еще один важный момент — внешняя валидация. На сегодняшний день нет ни одного валидизированного теста на русском языке, который был бы похож на тест личностных адаптаций. Для сравнения методик важно, чтобы они были на одном и том же языке.
Так как мы в полной мере не нашли диагностических инструментов по психодиагностике личностных расстройств, укорененных в теоретическом подходе транзактного анализа, мы вынуждены были прибегнуть к ближайшим по эквивалентности методикам. На наш взгляд, когнитивно-поведенческая терапия имеет существенные феноменологические сходства и пересечения в описании и репрезентации этих феноменов.
В оценке конвергентной валидности авторы могут выбирать тот инструмент, который считают необходимым. Как я уже упоминала, мы выбрали тест Людмилы Собчик — индивидуально-типологический опросник (ИТО). Мы также сравнили его с подтвержденным опросником личностных убеждений А. Бека (PBQ, Personality Belief Questionnaire) в адаптации Е. Рассказовой. В когнитивной модели Бека выделяют 10 паттернов дисфункциональных убеждений, приводящих к специфическим дефицитарным и высокоразвитым копинг-стратегиям.
Опросник убеждений личности (PBQ) — основанный на этой модели инструмент самоотчета, позволяющий дифференцировать людей с избегающим, зависимым, обсессивно-компульсивным, нарциссическим, параноидным, гистрионным, пассивно-агрессивным, антисоциальным и пограничными типами поведения. Опросник PBQ, так же как и опросник JPAQ, отражает как состояние нормы, так и степень акцентуации личности (по мере смещения к дисфункциональному концу шкалы).
Мы сравнили адаптации с этим тестом, и у нас вышли достаточно хорошие корреляции. Взаимосвязь шкал личностных адаптаций и шкал дисфункциональных убеждений подтверждает и обнаруживает связь между личностными чертами, выделенными Джоинсом, и паттернами, описанными Аароном Беком.
Методики показывают схожесть, что подтверждает работоспособность нашего теста. То есть нам надо было показать, что и внутренняя согласованность теста хорошая, и внешние корреляции с другими методиками тоже. И мы сделали это.
— Получается, что ваша модификация теста даже более валидная, чем оригинал. И масштабы выборок впечатляют: 300, 850 и 1500 респондентов. Юля, сколько времени в общей сложности заняла эта работа? С какими трудностями вы столкнулись в процессе?
— Работа длилась два с половиной года. Основные сложности касались того, что мы пытались соблюсти баланс и репрезентативность выборки, потому что выборка должна быть сбалансированной, то есть мы обязаны соблюсти много критериев. Например, возрастные диапазоны. Тест должны проходить люди младшего возраста, например в возрасте от 18 до 20 лет, а также люди старше 70 лет. Когда мне нужно было собрать респондентов старше 70 лет, я обращалась к фокус-группам с просьбой: «Если у вас есть бабушки, дедушки, родители или знакомые старше 70 лет, пожалуйста, дайте им пройти тест». Мы собирали респондентов по всей России, включая людей, которые переехали и живут не в России, но остаются русскоговорящими. Выборка также должна состоять из представителей разных профессий, не только психологов, которых у нас, как вы понимаете, было достаточно. Еще сложность заключалась в том, что мужчин, желавших проходить тестирование, было очень мало. Мы за мужчинами буквально гонялись. Я лично звонила и писала им: «Пожалуйста, вы нам нужны, пройдите тест». Нам было сложно объяснять людям, что это за тест, потому что он не такой известный, как «Большая пятерка» или тест Бека на депрессию. Наверное, в этом скрупулезном подходе к выборке кроется основа для валидности, потому что репрезентативность выборки — это основной качественный параметр исследования.
— Расскажите, что вы узнали о себе во время работы над тестом?
— Во-первых, что я очень упорная и бесстрашная. Я это знала и раньше, но здесь подтвердила свои адаптации и опиралась на них. Расскажу о себе, как на духу. Я — «Чрезмерно реагирующий энтузиаст» (истероид) и «Очаровательный манипулятор» (антисоциал). Я понимала и знала, что доведу это дело до конца, потому что я еще и «Ответственный трудоголик». Я очень хорошо понимаю, знаю свои адаптации и осознанно использую их. Вообще, это здорово — заниматься тем, что тебе интересно, делать что-то свое. Даже если ты начинаешь что-то новое, делаешь это в первый раз, ты постоянно учишься и развиваешься. Я убедилась в том, что могу поддерживать себя и свой процесс развития. И я точно так же поддерживаю и очень уважаю коллег, которые делают что-то новое, выходят за рамки собственных ограничений, мыслят шире предложенных условий, умеют создавать новые конструкции.
Я узнала о том, что я довольно-таки умелый организатор, способный выдерживать и регулировать большие процессы. Я принимаю решения, толерантна к критике и умею не обслуживать чужие фобии и проекции. Я способна собрать крутую команду — поэтому работаю с лучшими. Я уважаю экспертов и понимаю, как нужно выстраивать с ними работу. Я училась принимать свои ошибки и любить себя за них. Ошиблась — не беда, значит, в следующий раз я сделаю лучше. На мой взгляд, эксперт — это человек, который сделал много ошибок, поэтому он точно знает, «как не надо».
— Что вы узнали о других и о мире в процессе работы над проектом?
— Очень многим был интересен проект и участие в нем. Было столько звонков, писем с готовностью поработать с нами! Люди ценят поддерживающую обратную связь, и как это важно — быть в контакте и откликаться сразу. Огромная благодарность нашим респондентам, всем, кто принимал участие в тестировании! Всем, кому нужен был этот тест для научных исследований, мы предоставляли доступ: сама по себе методика коммерческая, но Вэнн Джоинс разрешил нам использовать ее бесплатно для научных целей.
Сотрудничество важнее, сильнее и мудрее конкуренции и конфронтации. Эта правда очень обогащает. Развитие важнее ограничений. За этим — жизнь.
Кажется чудом, но за все это время я ни разу не столкнулась с негативным отношением кого-либо к этой работе. Я видела, как много людей поддерживало наш проект. Скажу о Людмиле Николаевне Собчик, которая стала сотрудничать с нами, говоря, что ей интересен именно наш проект. Эта модель давно ее привлекает; ей интересны корреляции с ее методиками. По поводу каждой из адаптаций она высказала собственные соображения, опираясь на свои типологические определения. Это была большая работа. Мы хотим видеть ее опубликованной. К примеру, Л. Н. Собчик дала свои уникальные литературные определения для каждой из комбинаций адаптаций. Можете себе представить? Это колоссальная работа. Она готова стать нашим соавтором в публикации.
Я благодарна Вэнну Джоинсу, который все этапы модификации отслеживал, подтверждал и говорил о том, что «все очень хорошо — двигайтесь дальше». Он говорил: «Да, супер, вы улучшили методику, молодцы». Истинный пример настоящего научного подхода к развитию методики.
Я бесконечно благодарна своему научному руководителю Вадиму Артуровичу Петровскому, который в меня верит, вдохновляет, каждый раз говорит: «Да, это замечательная работа, вы большая молодец! Нужно двигаться вперед!»
Однажды Вадим Артурович прислал мне письмо в стихах, в котором цитировал строчки Евгения Винокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Я расплакалась, когда это прочитала. Действительно, мы растим учеников для того, чтобы они двигали вперед науку, технику, практику. Вот это самая окейная, самая правильная позиция!
Тест личностных адаптаций JPAQ (Joines Personality Adaptations Questionnaire)
Тест-опросник личностных адаптаций JPAQ создан американским психотерапевтом Вэнном Джоинсом на основе модели личностных адаптаций, описывающей индивидуальные стили поведения. Вэнн Джоинс (Vann Joines) — аккредитованный обучающий транзактный аналитик ITAA, лицензированный клинический психолог, PhD, президент Юго-Восточного института групповой и семейной терапии в Северной Каролине, США.
Тест определяет:
- характеристики и адаптивные стили человека;
- его способы взаимодействия с окружающей средой;
- три адаптации для выживания и три адаптации для одобрения;
- взаимодействие с другими людьми в различных социальных ситуациях;
- активное или проактивное решение актуальных проблем;
- коммуникативный стиль поведения и мышления;
- отношение человека к тому или иному событию.
Тест может быть эффективным диагностическим инструментом как в индивидуальной терапии, так и в работе с парами, группами и организациями. Также методика может быть интегрирована в командный и индивидуальный коучинг и HR-процессы.
Подробнее на сайте теста https://tla-russia.com.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛИДАЦИИ
Тест-опросник личностных адаптаций в русскоязычной версии реализуется на правах исключительной лицензии автора методики Вэнна Джоинса.
- Согласно Всемирной конвенции об авторском праве, а также нормам и положениям Международной тестовой комиссии, любая психодиагностическая методика, защищенная авторским правом как объект интеллектуального труда, не может быть переведена на другие языки без разрешения автора метода или лиц, представляющих его права.
- Так как тест-опросник личностных адаптаций является коммерческой методикой, защищенной авторским правом, первым делом Ю. Полтавская и В. Петровский запросили разрешение на адаптацию и модификацию опросника в русскоязычной версии у автора метода. В результате было получено лицензионное соглашение, дающее исключительные права на перевод и модификацию данной методики.
Исключительными правами на перевод, модификацию теста и его реализацию обладают В.А. Петровский и Ю.В. Полтавская.
Исключительные права действуют на территории России, Грузии и следующих стран СНГ:
- Азербайджан;
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Молдова;
- Таджикистан;
- Узбекистан.
Также лицензионное соглашение включает права на перевод и модификацию клинического руководства для терапевтов по диагностике и интерпретации результатов.
Об авторах
Ольга Владимировна Кочеткова-Корелова
Журнал «Транзактный Анализ в России»
Автор, ответственный за переписку.
Email: ok810@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5059-3455
Главный редактор; частная психологическая практика, магистр психологии; член СОТА и EATA
Россия, МоскваСписок литературы
Дополнительные файлы