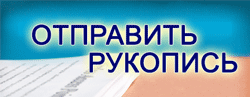«Наша память — не для прошлого, а для будущего»
- Авторы: Самойлова А.И.1,2
-
Учреждения:
- Международный Развивающий Институт Транзактного Анализа (МИР-ТА)
- НИУ ВШЭ
- Выпуск: Том 5, № 1 (2025)
- Страницы: 57-62
- Раздел: "Я - О`кей, Ты - О`кей"
- Статья получена: 31.05.2025
- Статья одобрена: 31.05.2025
- Статья опубликована: 01.04.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/681790
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255157-62
- ID: 681790
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В интервью с профессором Дмитрием Шустовым TSTA (p) раскрывается оригинальная концепция «Памяти Будущего» — теоретической и практической модели, объединяющей транзактный анализ, нейропсихологию и философию времени. Рассматривается идея финальных сцен как предсказуемых элементов жизненного сценария, а также возможности их осознанного изменения. Интервью освещает вклад Шустова в развитие ТА в России, обсуждает вызовы и перспективы профессии в эпоху цифровых технологий, поднимает вопросы границ метода и интеграции с научной психиатрией. В тексте представлены уникальные биографические фрагменты, подчёркивающие влияние учителей профессиональных традиций, включая важную роль Дженни МакНамары — наставника, чьё имя стало символом качества и человечности в обучении и развитии транзактного анализа.
Полный текст
Часто кажется, что память — это архив пережитых событий, своеобразный склад воспоминаний, к которому мы обращаемся, чтобы осмыслить прошлое. Но что если память нужна нам не столько для хранения вчерашнего, сколько для предвосхищения завтрашнего? Современные исследования показывают, что мозг не просто вспоминает, а активно прогнозирует будущее. Наши ожидания, предчувствия, даже интуитивные решения — это работа «памяти будущего», механизма, который моделирует возможные сценарии, опираясь на прошлый опыт. Именно этот процесс во многом определяет наши жизненные выборы, успехи и неудачи.
Профессор Дмитрий Иванович Шустов, TSTA в области психотерапии, доктор медицинских наук, психиатр и исследователь, занимается изучением того, как память будущего формирует нашу реальность. В своих работах он показывает, что наше представление о грядущем не всегда объективно: его во многом определяют бессознательные сценарии, унаследованные от семьи, общества и личного опыта.
Как распознать и изменить этот скрытый сценарий? Можно ли научиться воспринимать будущее не через страх, а как пространство новых возможностей? И почему память, вопреки распространенному мнению, нужна нам не столько для прошлого, сколько для будущего?
Об этом, о воспоминаниях Дмитрия Ивановича и о его встрече с учителем, повлиявшим на его взгляды, а также о многом другом — в интервью с профессором Шустовым.
— Концепция «Память Будущего» звучит интригующе и необычно. Интересно, какие моменты в вашей жизни и карьере стали фундаментом для создания этой концепции? Дмитрий Иванович, как родилось это название? Есть фантазия, что вам чего-то не хватило в ТА, поэтому появилась ПБ. Так ли это?
— Действительно, и само название «Память Будущего» (ПБ), и психологическая модель ПБ вызывают интерес и интригуют. Представьте, что модели будущей жизни, еще не прожитой нами, уже существуют и хранятся в памяти. Более того, эти модели можно произвольно вспоминать и изменять. ПБ — это уже не только чисто психологическая конструкция, но и регистрируемая и узнаваемая сеть, отвечающая за перемещение нашего «Я» во времени,—defaultnetwork. И конечно же, эту концепцию не я придумал. Такое название размышлениям о будущем и планам на будущее дал Дэвид Ингвар. Что касается моего вклада и вклада моей дочери, Ольги Тучиной,то он заключается в том, что мы распространили эту концепцию на изучение сценария жизни в том смысле, который закладывал Эрик Берн, а также провели исследовательскую работу, касающуюся финальных сцен зависимых клиентов. В России эта концепция обсуждалась уже более полувека назад на физиологическом уровне Петром Кузьмичом Анохиным1. Речь идет о так называемомакцепторе результатов действия (АРД) — аппарате в мозге, расположенном на вставочных нейронах, который создает опережающую модель; на ее достижение направлена деятельность человека или животного.Безусловно, много для понимания ПБ и построения ее моделей дал Лев Выготский2, предложив идею скаффолдинга — семантических (смысловых) опор, на которые опирается«Я», выстраивая психическую реальность.
Будучи студентом, я впервые узнал об Анохине и его идеях (тем более что он заведовал кафедрой физиологии в Рязанском медицинском институте, пережидая времена послепавловских чисток «марксистской» физиологии) и выстраивал уже свое научное мышление с учетом этой концепции. Много позже мы обсуждали идеи Анохина и идеи ТА с внуком Петра Кузьмича, академиком Константином Сергеевичем Анохиным,а также с учеником Петра Кузьмича — покойным академиком Судаковым. Мы говорили о том, что в сложных системах, каковой и представляется человеческая психика, финал или смерть также могут программироваться своеобразным АРД.В транзактном анализе (ТА) много внимания уделяется прогнозированию результатов жизни или финальной сцене: так или иначе Берн, вводя понятие сценарных процессов, предполагал примерные финалы, в особенности гамартических сценариев. Известна его знаменитая фраза о том, что терапевт должен ввести изменение в финальную сцену гамартического сценария. Это, на мой взгляд, самое важное в терапии ТА. ПБ как раз изучает финальные сцены.Унас есть прекрасный тренинг по финальной сцене, а также инструменты для её изменения, которые очень понятны с позиций ТА и современной нейронауки.
Я не думаю, что введение в ТА метода ПБ являетсяпринципиальной инновацией. Скорее, это насущная потребность: концептуализировать ТА с учетом современных достижений психологической и нейрокогнитивной науки. Этого не хватает многим практикам,а также теоретикам, которые избегают научного исследования, подтверждая свои идеи исключительно собственным опытом.
Профессор кафедры психиатрии медуниверситета Рязани Дмитрий Шустов получил Золотую медаль в Лондоне. Профессор награжден Европейской ассоциацией транзактного анализа (ЕАТА) за большой вклад в научные исследования в РФ, Европе и мире. Кроме того, российского специалиста отметили за большой вклад в продвижение ТА-областей. Это первая золотая медаль ЕАТА, которую вручили исследователям из России. Источник: https://runews24.ru/ryazan/08/07/2018/b84514b4e43bda6eaac90afc9cefcce7
— В чем, на ваш взгляд, ограничение ТА как метода — как для практикующего психотерапевта, супервизора, преподавателя или клиента? А в чем,наоборот,его преимущество?
— Думаю, что ограничение ТА как раз состоит в недостатке исследовательских методов и проверки гипотез. Сошлюсь на Нобелевского лауреата (2000) в области памяти Эрика Канделя, который изучал психоанализ и всегда трепетно следил за его развитием.Он писал: «…профессиональные институты должны перестать быть профессионально-техническими училищами — или цехами, как это было в прошлом, — и превратиться в центры исследования и образования» (Э. Кандель, 1999). ВТА практикуется цеховой подход подготовки специалистов, когда лидер в ранге TSTA группирует вокруг себя учеников и, как лев за прайдом, зорко следит, чтобы его студентами не попользовались чужаки.
Преимущества ТА в его международной открытости, в его интернациональном духе и общих для всех стран критериях подготовки и сертификации. Понятно, что культуральные особенности накладывают свой отпечаток на особенности внутриличностного диалога «Родитель-Ребенок», но не в той мере, в какой бы мы сейчас говорили об американскомили китайском ТА.
— Можно ли считать «Память Будущего» фактически эволюцией ТА в России, или это самостоятельное направление (метод)? Как ПБ вписывается (и вписывается ли) в современные подходы к транзактному анализу?
— Нет, ПБ — это не «эволюция ТА в России». Выше я изложил свое мнение на этот счет. Другое дело, что направление ПБ ближе, с одной стороны, к классическому ТА, где используется много когнитивно-бихевиоральных подходов изучения сценариев и схем, и, конечно, к нарративному ТА, ведь ПБ изучает автобиографическую память или нарративное «Я», которое за счет автоноэзиса — способности «Я» к перемещениям из прошлого в будущее — и формирует в будущем финальные сцены (их может быть множество). Финальные сцены дают о себе знать реальному «Я» или Взрослому в виде флэшфорвардов (зрительных и когнитивных эпизодов предвидения), чувства предчувствия и других имплицитных феноменов.
— Какие современные тенденции есть в ТА в мире и России? Какие зоны роста вы видите? От каких ловушек вы бы хотели уберечь ТА? В каком направлении, на ваш взгляд, будет развиваться ТА в России вближайшие 5–10 лет?
— Мое видение перспектив ТА ограничивает моя специальность. Я с интересом слежу за работой коллег, которые развивают клиническое направление и концептуализируют психическую реальность человека в терминах диагноза, прогноза, терапевтического планирования, что способствует интеграции ТА с медициной и страховой медициной, когда методы ТА официально признаются научнообоснованными и рекомендуются широкому кругу специалистов в области психического здоровья. Я говорю о работах Марка Виддоусона, Энрико Бенелли, Моники Туниссен, Зефиро Меллаккуа и школе Ричарда Эрскина и Мэри О’Рейли-Кнапп в области диссоциированных и шизоидных расстройств. Что-то подобное и мы сделали с Т. В. Агибаловой в области наркологии — лечении химических зависимостей. С другой стороны, «неклинические» представители очень интересно и оригинально используют ТА и его аппаратуру, предлагая новаторские подходы в разных областях применения ТА. Я говорю о Бернде Шмитте, Труди Ньютон, Розе Крауц и многих других.
— Есть мнение, что в будущем искусственный интеллект легко заменит психолога. Уже сейчас некоторые AI могут дать совет, успокоить, предложить какую-то технику. Ваш прогноз: к чему готовиться психологам вообще и в ТА в частности?
— Это очень хороший и важный вопрос. Движение в сторону искусственного интеллекта происходит на наших глазах: пандемия COVID-19 перевела психотерапию и обучение в онлайн-формат. И посмотрите, ничего не произошло непоправимого. Мы получили много выгод от перехода в онлайн-мир и много, понятно, издержек, которые должны учитываться. В онлайн-формате мы потеряли пока мир запахов, мир реальной перспективы и навигации. Боюсь, потеряем только народившийся экологический ТА. С другой стороны, мы приобрели новые возможности для визуального понимания друг друга. Облегчилась возможность записи и повторного изучения контакта «терапевт-клиент»; можно быть доступным и строить глубокие взаимоотношения «прямо сейчас» с людьми из разных стран, часовых и климатических поясов;есть возможность промоушена ТА, а также большая его доступность для людей с ограниченными финансовыми и физическими возможностями.
Другой аспект — может ли гаджет быть психологом? Думаю, что да. Уже сейчас есть онлайн-боты даже для кризисных клиентов. С интеллектуальной точки зрения здесь нет препятствий: искусственные машины для шахмат переигрывают гроссмейстеров, так что скоро шахматы могут стать исторической игрой, как и огромное количество профессий. К сожалению, психотерапия относится к ним. Конечно, если не произойдет чего-то радикального, например: открытие природы сознания, измерений «Я» или чего-то, где цифровой мир покажется анахронизмом.
С другой стороны, эмоциональный офлайн-контакт человека с человеком, человека с пятью людьми, человека со многими людьми, многих людей со многими людьмитаит много неясного (гаджет взаимодействует с гаджетом очень предсказуемо) и еще неоткрытого — так, что психотерапия поборется за свое место под естественным и искусственным солнцами. И у отношенческого ТА (в плане терапии 3 тупика) больше перспектив, чем у какого-нибудь «другого» ТА.
— Расскажите о ваших учителях. Дженнифер МакНамара — ваш тренер. Какой она учитель? Чем именно ее подход вдохновлял или, возможно, вызывал новые осознания? Наверняка у вас есть история, которая особенно повлияла на вас как на профессионала и человека. Какие конкретные советы дала вам Изабель Криспель по поводу развития в области TA? Есть ли совет, который поразил вас и который вы применяете до сих пор?
— Дженни — человек, который сделал себя сам, и это ее несомненный ресурс, которым она пользовалась и пользуется сейчас.Она делала то, что планировала, делала мастерски и не обязательно тотчас. Дженни прошла непростой путь в «капиталистической» Англии: вышла из простой семьи со сложными сценариями, окончила третий по престижности и времени основания (после Оксфорда и Кембриджа) Даремский университет. Она организовала свой психотерапевтический бизнес, хотя иногда не могла оплачивать услуги своих учителей.Дженни рассказывала, что Петрушка Кларксон, её учитель в ТА,предложила ей шить для нее платья вместо оплаты супервизий. Она удостоилась почетнейших наград Великобритании, стала вместе с Мери Кокс основателем двух ТА-терапевтических российских династий. Причем Дженни поддерживала своих учеников в России собственным авторитетом, приезжала, создавала программы.
С Дженни после сдачи экзамена на СТА, Утрехт, Нидерланды.
Изабель Криспель, преподаватель клинической психологии VIII Парижского университета, — организатор. Именно с ее помощью была создана Рязанская ассоциация ТА: она настаивала на образовании официально зарегистрированной структуры, чтобы приезжающие тренеры ТА, ученики и члены сообщества были надежно защищены. Изабель — резкая и точная, прекрасно понимающая психотерапевтический процесс, была восхищена и поражена приемом и интересом к ТА. Она также много работала в Москве и прочитала 101 курс в Литературном институте (кстати, она была приглашена в Литературный институт по инициативе ректора С. Н. Есина и писателей, которых заинтересовал ТА).
Фото из личного архива Шустова. Москва, Один из первых 101 курсов.
Фото из личного архива Шустова. (Это опять Утрехт, 2004).
Что касается советов и напутствий. Я сдавал экзамен СТА в Утрехте. Дженни настояла, чтобы перед экзаменом я съел орехи, мед и бананы. Мне помогло, и вы тоже можете воспользоваться советом Дженни. Совет от Изабель… Я выучился правильно называть красное вино «Бордо» с французским прононсом — «Богрду» — как-то так. Это мне сильно запомнилось. «Бордо» она привозила с собой. А Дженни любила ликер «Бейлис». И конечно же, все, чем я работаю в ТА, я взял в основном у этих двух женщин: я безмерно благодарен им, люблю и поддерживаю контакты, наверное, не так часто, как хотелось бы.
фото из личного архива Шустова. 2002 г. Это на лужайке у дома Дженни в Сальтбурне, Великобритания.
— Дмитрий Иванович, получение Золотой медали ЕАТА в 2018 году —значительное достижение, свидетельствующее о вашем весомом вкладе в развитие ТА. Расскажите, какое из ваших профессиональных достижений или личных инициатив вы считаете ключевым, которое привело вас к этой награде? И как это событие повлияло на вашу дальнейшую карьеру и взгляды на ТА?
— Думаю, что мои работы в области аддиктологии, в том числе опубликованные в «Журнале Транзактного Анализа3» (Transactional Analysis Journal, TAJ), заинтересовали ТА-сообщество, а наш с Татьяной Васильевной Агибаловой опыт преподавания ТА в Национальном центре наркологии (там мы встречали и Стивена Карпмана, и Дженни МакНамару, и Мэри О’Рейлли-Кнапп) и работы, опубликованные в отечественных журналах, послужили тому, что ТА был официально признан в РФ научно-доказательной терапевтической технологией, которая могла быть применена для лечения зависимых от алкоголя и опиатов пациентов.Для меня номинация и награждение были неожиданностью. Впервые узнал об этом от своего коллеги Ильи Федотова — делегата в Совете ЕАТА.Он предварил звонок Плеттенберга,на тот момент президента ЕАТА. Думаю также, что и моя работа в Совете ЕАТА, где я представлял Россию трижды, не прошла незамеченной для зарубежных коллег при голосовании.
В записную книжку психолога | |
Будущее не высечено в камне: оно уже живет в ваших ожиданиях, мечтах и решениях. Это упражнение из курса «Память Будущего» поможет вам осознать, какие сценарии вы создаете для себя, и при необходимости изменить их. Упражнение «Воспоминание из будущего» Цель упражнения: понять, как работает «Память Будущего» — способность представлять будущее событие так, как будто оно уже произошло, и опираться на это переживание в настоящем. Инструкция для выполнения.
| Анкета «Воспоминание из будущего».
Ожидаемый результат: в ходе упражнения активируются нейронные сети, связанные с автобиографической памятью, эмоциональным воображением и планированием. Представленное событие становится эмоционально окрашенным и автобиографически закодированным, что позволяет воспринимать его как более достижимое и реальное. Данное упражнение может использоваться как в индивидуальной психотерапевтической работе, так и в групповых форматах, а также в контексте коучинга, педагогической практики и психопросветительской деятельности.
|
Справка журнала «ТА в России»

Дмитрий Иванович ШУСТОВ
TSTA(p)в области психотерапии, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психологического консультирования ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Минздрава России; лауреат Золотой Медали ЕАТА (Лондон, 2018); Рязань, Россия; dmitri_shustov@mail.ru
Биография: Окончил Рязанский медицинский институт им. академика И.П.Павлова в 1984 году по специальности «Лечебное дело». Продолжил своё образование в аспирантуре по специализации «Психиатрия». В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную клинико-биологической диагностике алкогольного абстинентного синдрома и острых алкогольных психозов. В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему аутоагрессивного поведения и алкоголизма; исследования касались как клинических, так и терапевтических аспектов.
Под руководством Шустова Д. И. защищены две докторские и десять кандидатских диссертаций.
Сертифицировался как психотерапевт и транзактный аналитик по стандартам ЕАТА в 2004 году в Утрехте, Нидерланды. В 2010 году достиг уровня обучающего и супервизирующего транзактного аналитика и сдал соответствующий экзамен в Кёльне, Германия. Более восьми лет состоял в совете Европейской ассоциации транзактного анализа как делегат от России.В 2018 году награжден Золотой медалью ЕАТА за вклад в развитие ТА.
Автор книг «Руководство по клиническому трансактному анализу» (2009, 2020), «Психотерапия алкогольной зависимости» (2016), а также 260 научных трудов, 10 монографий, опубликованных в России и за рубежом, и множества статей.
1 Пётр Кузьмич Анохин (1898–1974) — советский и российский биолог и физиолог, известный своей теорией функциональных систем и концепцией системогенеза. Он внес важный вклад в кибернетику и психофизиологию. Его новаторская концепция обратной связи была опубликована в 1935 году.
2 Лев Семёнович Выготский (1896–1934) — советский психолог, основатель культурно-исторической теории в области психологии и концепции зоны ближайшего развития. Он внес значительный вклад в развитие психологии, дефектологии, педологии и педагогики.
3 https://www.tandfonline.com/author/Shustov%2C+Dmitri+I
Об авторах
Алсу Идгаровна Самойлова
Международный Развивающий Институт Транзактного Анализа (МИР-ТА); НИУ ВШЭ
Автор, ответственный за переписку.
Email: salsu@icloud.com
ORCID iD: 0009-0003-6815-2633
практикующий психолог, студент
Россия, Казань; Санкт-ПетербургСписок литературы
Дополнительные файлы