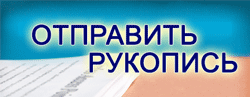В ловушке сценария: транзактный анализ и нарциссические раны Эрика Берна — есть ли взаимосвязь?
- Авторы: Лукьянова Л.Г.
- Выпуск: Том 5, № 2 (2025)
- Страницы: 18-26
- Раздел: Языком науки
- Статья получена: 11.08.2025
- Статья одобрена: 11.08.2025
- Статья опубликована: 12.08.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/689024
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255218-26
- ID: 689024
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье исследуется возможная взаимосвязь между историей жизни Эрика Берна, его сценарием и развитием транзактного анализа. Вкратце раскрывается природа нарциссизма и то, как значимые потери, которые Эрик Берн переживал в своем опыте — потеря отца, антисемитизм, отказ в принятии в Психоаналитический институт Сан-Франциско (SPI), — могли на него повлиять. Потери Эрика Берна, безусловно, имели некоторое влияние и на то, как именно появился и как в последующем развивался транзактный анализ в профессиональном сообществе. Статья рассматривает, каким образом неразрешенная травма может фиксировать личность в определенной игре, и призывает профессиональное сообщество к размышлениям о том, может ли выбор терапевтического направления быть обусловлен не только профессиональными, но и глубоко личностными основаниями специалиста; а также призывает каждого психотерапевта задуматься о том, что ему известно о природе собственной нарциссической части и какое влияние на него могут оказывать его незакрытые нарциссические дефициты.
Полный текст
Введение: о чем эта статья
В процессе развития своей частной практики и поиска ответов на вопросы об особенностях работы с нарциссическими клиентами мной была обнаружена статья-эссе Уильяма Корнелла (Cornell, 2020), в которой он рассуждает о том, каким образом нарциссические травмы Эрика Берна — психиатра и основателя транзактного анализа — могли повлиять на развитие терапевтической модели «транзактный анализ». Размышления на эту тему показались мне интересными еще и с той точки зрения, что, сколько бы литературы на предмет работы с нарциссическими клиентами (а ее немало) психиатры, психологи и психотерапевты ни читали, довольно сложно понять, как работать с этой частью, если не признана, не освоена собственная нарциссическая часть, которая есть в каждом из нас в разной степени проявленности. В этой связи мне показалось интересным углубиться в историю жизни Эрика Берна через призму его утрат, которые могли глубоко ранить его, ведь транзактный анализ в каком-то смысле родился вопреки нарциссическим ранам его основателя.
Предполагаю, что во многом личность Эрика Берна могла оказать влияние на то, каким образом развивался транзактный анализ на своей исторической родине — в США и, как следствие, в мире. Имея личный опыт жизни в Нью-Йорке (на данный момент я вернулась в Россию) и исследуя то, каким образом я могла бы там развивать свою частную практику, мне было грустно слышать, как местные терапевты, практикующие транзактный анализ и развивающие свою практику в США, рекомендовали не говорить о том, что я работаю в данном подходе, потому что «здесь никто об этом не знает». Удивительно и то, что значительное количество психотерапевтов, о которых известно в сообществе практиков транзактного анализа и которые проживают в США, предпочитают вести свои семинары онлайн, ориентируясь преимущественно на аудиторию Европы, России и стран СНГ.
По мере прочтения данной статьи мне бы хотелось пригласить читателя к путешествию-размышлению о том, как сценарий основателя транзактного анализа Эрика Берна может тесно переплетаться со сценарием самого транзактного анализа как единого организма; а также предложить поразмышлять о том, каким образом выбор терапевтического направления может отражать некоторые внутренние процессы специалиста в ходе развития его профессионального пути.
Природа нарциссизма
Тони Тилней (2005) дает следующее определение нарциссизма:
«Инвестиция психологической энергии (катексис) в себя. Может быть позитивным и поддерживающим (например, здоровое уважение к себе). Завышенная самооценка или переоценивание себя — это защита от травмы ранней потери отношений... Ребенок нуждается в позитивном отклике, заботе и поддержке себя; такие потребности можно обозначить как нарциссические потребности, и это может быть представлено в терминах транзактного анализа как адекватные и необходимые поглаживания. Отвергающее и абьюзивное поведение по отношению к ребенку наносит нарциссическую травму и будет впоследствии приводить к приказанию «не живи» (р. 76).
Ледерер (1996) в своей статье писал о том, как дети, которые испытывали недостаток контакта со своим опекуном в первые годы жизни, ощущали невозможность иметь близкие отношения; при этом они верили в то, что они нежеланные и изначально нелюбимые. Он описывал, как многие младенцы внутренне перестраиваются под систему выживания в социуме и как младенец, который чувствует недостаток в физическом или психологическом контакте, становится эмоционально отстраненным. Не имея достаточной поддержки и материнской вовлеченности, ребенок справляется с данной проблемой, принимая решение: «К черту их всех! Я могу все сам!» Подобное решение может приводить к невозможности построения более близких или любовных отношений и усиливать ряд нарциссических защит в виде идеализации и обесценивания, что вызывает чувство стыда и отстраненности. В рамках транзактного анализа также получили широкое распространение работы Уильяма Корнелла и Ричарда Эрскина, в которых большое значение придается чувству стыда как некому феномену, который может приводить к внутреннему ощущению «Я не Окей» и усиливать стремление к идеальности как к защитному механизму. Во многом именно отсутствие достаточной родительской поддержки в период раннего развития ребенка, когда он сталкивается со своими ограничениями и неидеальностью, может усиливать чувство стыда и провоцировать такие поведенческие реакции, как высокомерие, надменность, избегание или изоляция.
Потери Эрика Берна
В статье «Эрик Берн и утраты» Анна Хескоут (2016) пишет о том, что Берн в своей жизни пережил немало утрат. Например, первая жена Рут ушла от него и на долгие годы запретила ему видеться с их детьми — дочерью Элен и сыном Питером. Его приёмная дочь Роксана от второго брака с Дороти погибла в ДТП в возрасте 15 лет. Кроме того, он терял работу и сталкивался с конфискацией своих документов. Анна Хескоут выделяет при этом самые значимые утраты, которые, по ее мнению, могли иметь на него наибольшее влияние:
- смерть отца в раннем возрасте;
- столкновение с антисемитизмом;
- отказ в принятии в Психоаналитический институт Сан-Франциско (SFPI).
В данной статье мне хотелось бы подробнее раскрыть каждое из этих событий и привести исторические выдержки из различных источников о личности Эрика Берна, интроект которого в той или иной степени присутствует у каждого, кто практикует транзактный анализ; сфокусироваться на отказе, который получил Эрик Берн от Психоаналитического института и который был для него довольно болезненным.
1. Потеря отца
Эрик Берн (Леонард Бернштейн) родился 10 мая 1910 года в Монреале (Канада) в еврейской семье эмигрантов из России и Польши. Его отец, Дэвид Хиллер Бернштейн, был доктором медицины, врачом-терапевтом, а мать, Сара Гордон Бернштейн, — профессиональным автором и редактором. Сестра Эрика Берна, Грейс (Артур Роуз), была младше его на пять лет. Берн гордился своим отцом, особенно тем, что тот был врачом. Юный Эрик часто сопровождал его во время медицинских обходов и был готов ждать возле дома пациента — в машине или даже на конных санях в холодную монреальскую зиму. Сам Берн предполагал, что, возможно, именно тогда и было принято его раннее детское решение стать врачом. В последующем, в 1935 году, Берн получит степень доктора медицины и магистра хирургии в Университете Макгилла в Монреале (Канада), а после прохождения интернатуры в Инглвудской больнице в Нью-Джерси (США) станет психиатром. Берн писал, что, дожидаясь своего отца у дома пациента, он предпочитал «не играть со сверстниками во дворах, а оставаться отстраненным, что позволяло, как ему казалось, «сохранять свою особенность» и чем-то отличаться от дворовых детей» (Berne, 2010, р. 80).
Отец Эрика Берна в 1907 г., обучение в меде, Дэвид Хиллер Бернштейн
Мать Эрика Берна Сара Гордон Бернштейн, 1925 г.
Дэвид Хиллер Бернштейн, 1920 г.
Этот ранний опыт «отчужденности» — выбор не быть с другими, но быть рядом с кем-то более значимым и «взрослым» с позиции ребенка (тогда Эрику было около 8 лет) — возможно, сформировал у Берна в последующем внутренний способ справиться с потребностью в признании и исключительности, которая при этом сочеталась с дистанцированием и насмешками над другими. Подобное наблюдение может быть важным, если мы обратим внимание еще и на возможные скрытые мотивы выбора профессии.
Мое предположение состоит в том, что, выбирая этот путь — быть психиатром, психологом, психотерапевтом (далее по тексту, во избежание путаницы, обозначу все три направления профессии одним словом — «психотерапевт»), у специалиста может возникать бессознательное стремление научиться таким образом строить отношения с другими. Во многом психотерапевты как люди, которые выбирают свою профессию, стремясь помогать другим, сталкиваются со своей грандиозностью, с ощущениями важности и нужности (или ненужности). При этом в профессиональном поле значительная часть личности специалиста остается за кадром: мы не можем быть с клиентами собой в полной мере, и это в том числе защищает наше «хрупкое я», нашу нарциссическую часть, а в чем-то может поддерживать некий идеальный образ самих себя. Зачастую подобные защитные конструкции могут формироваться в ответ на ранние непрожитые утраты, на дефицит эмоциональной вовлеченности значимой фигуры, а также на невозможность быть замеченным в моменты глубокой уязвимости. Психоаналитик Олиник отмечал, что у самых талантливых психотерапевтов был депрессивный или больной родитель, за которым они ухаживали.
В 1918 году отец Берна заболел испанским гриппом, который впоследствии стал причиной туберкулеза. Берну было 8 лет, и в последующие несколько лет его отец жил в значительной степени отстранённо от семьи, поскольку нуждался в отдыхе. Дэвид Бернштейн умер в 1920 году, когда Берну было 10 лет. Это была большая утрата не только для маленького Эрика, но и для его матери, которая была вынуждена искать способы прокормить семью.
Последними словами умирающего отца Эрику были: «Маленький мальчик должен заботиться и о своей сестре, и о матери». По поводу похорон отца Берн писал: «Я знал, что идти за гробом моего отца — это мужская работа» (Berne, 2010, р. 98). Он также довольно трогательно писал о том, что, хотя не был склонен посещать синагогу, после смерти отца стал делать это каждый день незадолго до захода солнца, чтобы произнести траурную молитву. Он писал: «Я поднимался к кафедре и стоял в очереди с другими скорбящими; делая шаг назад, произносил последние слова согласно древнему ритуалу. Я был там единственным ребенком» (Berne, 2010, р. 112). В то время Берн посещал синагогу каждый день в течение года, чтобы завершить свой год траура. Возможно, это было время, когда он сильно отождествлял себя со своим еврейским происхождением и еврейской верой.
Во многом в сценарии Эрика Берна на протяжении всей жизни прослеживается тема близости и трудности построения отношений, что, по крайней мере частично, можно связать с потерей отца в молодом возрасте. На своей последней аналитической сессии (он был в юнгианском анализе последний год своей жизни) Берн сказал: «Знаешь, я всю свою жизнь обучаю людей строить близкие отношения, и при этом у меня никогда не получалось достичь близости» (Jorgensen & Jorgensen, 1984, p. 244).
2. Антисемитизм
Берн был свидетелем множества примеров антисемитизма. Он и его родительская семья проживали в окружении большого антисемитского протестантского движения. Мать Эрика потеряла работу после смерти мужа, когда протестантская школа обнаружила, что она была еврейкой. Сам Берн сталкивался с преследованиями, плевками и издевательствами — в том числе с оскорблениями «грязный еврей» от франкоканадских детей. Он не был допущен в Ассоциацию канадских скаутов, потому что туда принимали только протестантов. Несмотря на отличную учёбу в гимназии (старшей школе), Берн также не был допущен в секцию лидеров, которые тренировались в акробатических прыжках в высоту, поскольку это тоже разрешалось только протестантам. Участие в школьной футбольной команде также разрешалось только детям из протестантских семей. О своих отношениях со сверстниками в гимназии Берн писал: «Арабы, итальянцы и евреи сформировали аут-группу».
В возрасте 25 лет Берн покинул Канаду и переехал в Америку на стажировку, так как проходить подобную стажировку в больницах Монреаля ежегодно могли только два выпускника-медика еврейской национальности (неофициальная, но хорошо известная практика). Канадские больницы в других городах следовали той же системе (Jorgensen & Jorgensen, 1984).
Эрик Берн в 25 лет, 1935 г.
Этот опыт системной дискриминации по этническому признаку, вероятно, оказал влияние не только на личную и профессиональную траекторию Берна, но и на его интерес к глубинным структурам социального взаимодействия. Столкнувшись с ограничениями, навязанными извне через негласные, но устойчивые культуральные правила, Берн мог интуитивно осознавать, что группы и сообщества регулируются не только формальными нормами, но и более глубокими неосознаваемыми предписаниями.
Таким образом, мы можем предполагать, что, опираясь в том числе на личный опыт, Берн в своих трудах предложил концепцию влияния культурального фактора на группы, которая основывается на его модели эго-состояний. Берн писал о том, что, взаимодействуя друг с другом, группы людей или комьюнити опираются на Родительские ценности (etiquette) — «то, что полагается делать из Родителя»; формальности (technicalities) Взрослого — «то, что необходимо делать»; эмоции (character) Ребенка – «то, что хочется делать». На сегодняшний день концепция трех эго-состояний широко применяется в исследовании культурального фактора в транзактном анализе. Сам Берн писал: «Мы рассматриваем Родителя, Взрослого, Ребенка данной культуры» (Drego, 1983, pp. 224-227).
Позднее окружение Берна свидетельствовало о том, что ему было стыдно за свою еврейскую внешность. Стыд и брошенность — ощущения, которые могут возникать при столкновении с антисемитизмом и принадлежности к группе, которая регулярно сталкивается с унижением и жестоким обращением.
Так, в открытом письме Берну Фанита Инглиш рассказала о своем убеждении, что Берн жаждет позитивных поглаживаний по поводу своей внешности и что его поведение в дальнейшем только подтвердило ее предположение. Сама Фанита описывала его как «худого еврейского ребенка в очках с толстыми стеклами и большим носом». В своём письме она рассказывала о том, как вышла за Берном из зала, чтобы поздравить его с выступлением на конференции в Монтерее (1969 год). Она сказала ему: «Ты отлично справился». Берн никак не отреагировал на это и продолжил идти как ни в чём не бывало. Тогда она обратилась к нему: «Твое выступление действительно было очень хорошим; я даю тебе поглаживания, но ты их не принимаешь». Позже она писала ему, ссылаясь на этот случай: «Ты выглядел озадаченным и никак не отреагировал. В то время мы уже были друзьями, так что я могу конфронтировать тебе. Ты печально ответил: “Если бы ты сказала мне, что я хорошо выгляжу, тогда бы я тебя послушал” — и ушел, опустив голову» (English, 1981, pp. 46-49). Рут, первая жена Берна, утверждала: «Он ненавидел свои волосы, потому что они делали его евреем, — вы знаете, с плотными локонами» (Jorgensen & Jorgensen, 1984, p. 17).
Эрик Берн, 1955 г.
Думаю, опираясь на вышесказанное, мы можем сделать выводы о том, что Берну действительно было стыдно за свою еврейскую внешность. К тому же его современники отмечали, что он редко упоминал свое еврейское происхождение и в каком-то смысле дистанцировался от него, изменив фамилию с Бернштейна на Берна.
3. Отказ в принятии в Психоаналитический институт Сан-Франциско (SFPI)
Известно, что Берн изначально изучал и практиковал психоанализ, но так и не был принят в психоаналитическое сообщество. Анна Хескоут пишет, что понимание подлинных причин отказа Эрику Берну во вступлении в Психоаналитический институт стало возможным благодаря открытию первой части его архива в Калифорнийском университете в Сан-Франсиско (Heathcote, 2016). Это позволило получить доступ к письму Эмануэля Виндхольца, председателя образовательного комитета Психоаналитического института Сан-Франциско, которое датируется 1953 годом. Берн изучал психоанализ с 1941 года: сначала в Психоаналитическом институте в Нью-Йорке, а после войны продолжил свое обучение в Сан-Франциско. Именно в этом письме изложены причины отказа Берну в приёме в институт.
Майор Эрик Берн, 1946 г.
Во вступительном абзаце говорится, что письмо должно подтвердить то, что «неоднократно» обсуждалось на прошлых и недавних встречах с Берном. В 1953 году Виндхольц объяснил, что с тех пор, как Берн начал супервизировать клиническую работу, комитет по образованию столкнулся со сложной проблемой, помогая ему успешно завершить обучение. Виндхольц прояснил: «Ваши супервизоры с самого начала ясно дали понять, что у вас была особая проблема с выполнением психоаналитического лечения. Казалось, что вы очень успешно понимали своих пациентов в индивидуальном интервью, но не смогли проследить за тенденцией и преследовать терапевтическую цель в соответствии со стандартной психоаналитической техникой» (Heathcote, 2016, 239).
Виндхольц (1953 год) рекомендовал Берну прекратить супервизировать его клиническую практику, но Берн выразил желание возобновить свой анализ и делал это с Эриком Эриксоном в 1948–1949 годах.
Когда в образовательный комитет поступила информация о «некоторых улучшениях», они побудили Берна представить выпускную работу, что он и сделал. Однако статья была в основном теоретической и не могла быть использована для оценки практических навыков Берна.
Виндхольц утверждал, что в ответ на письмо Берна (1950 год) комитет на встрече в 1951 году одобрил переезд Берна в Сан-Франциско, чтобы он мог установить более тесные отношения с институтом и со временем представить им свои труды. Берн явно был заинтересован в продолжении. Но, к сожалению, комитет пришел к выводу, что новая работа подтвердила мнение супервизоров Берна в 1948 году: «В вашей работе выявлено много полезного для понимания бессознательного состояния пациента и оценки его проблемы в периоды отстраненности. Тем не менее основная сложность выполнения техники классического психоанализа остается неизменной» (Heathcote, 2016, 239).
Комитет решительно рекомендовал Берну прекратить его психоаналитическое обучение и заявил, что не считает дальнейшее супервизорство целесообразным. Однако в следующем абзаце письма сообщалось, что Берн попросил остаться кандидатом еще на три года. Комитет по образованию согласился с тем, что Берн может остаться в списке кандидатов со статусом «Квалификация, подтверждающая, что ваше обучение было прервано» (аналог нашей академической справки). Это означало, что он не сможет получать дальнейшее обучение, включая анализ, супервизии или семинары. Однако Берн мог бы представить любую информацию, которую, по его мнению, следовало бы учесть при пересмотре решения о его обучении. Окончательное расставание Берна с психоанализом произошло три года спустя. Первого ноября 1956 года Берн написал заключительное письмо в Психоаналитический институт. В нем он все еще говорил о себе (немного высокомерно) как о специалисте, изучающем психоанализ: «Я убежден, что учусь психоанализировать трудным, но, возможно, самым лучшим способом» (Heathcote, 2016, 239).
Современники утверждали, что могли быть и дополнительные причины, по которым Берн был отклонен институтом, и это те причины, которые не могли быть изложены на бумаге. Возможно, комментарий Фаниты Инглиш о разговоре, который она вела с Берном в конце 1960-х годов, может прояснить некоторые моменты: «Я предположила (и ты не согласился), что ты играл в игру, которую я назвала “Они пожалеют, что пнули меня”. Действия заключались в том, чтобы намеренно провоцировать (на гнев) Бунтующего Ребенка или Критикующего Родителя других, а затем дать им повод либо отметить, насколько ты умен, либо осознать, насколько они недооценили тебя» (Heathcote, 2016, 239).
В 1971 году Чейни в первом номере журнала «Транзактный анализ», который был посвящен Берну, описал трогательный портрет Берна и прокомментировал его разрыв с психоанализом: «Однако в конце концов в этом желанном звании [психоаналитика] было отказано; его заявление о приеме в члены в 1956 году было отклонено с вердиктом о том, что он еще не готов, но, возможно, еще через три или четыре года личного анализа и обучения он сможет подать заявление снова». Миссис Дороти Берн, вторая жена Берна, которая была свидетелем реакции Эрика на отказ, сообщала: «Отказ был разрушительным, но и очистительным, побудив его усилить давнее стремление добавить что-то новое в психоанализ. Почти сразу же он с энтузиазмом принялся за работу, решив самостоятельно разработать новый подход к психотерапии, не прибегая к благословениям или поддержке со стороны психоаналитического сообщества» (Cheney, 1971, р. 18).
Уильям Корнелл: «…я пришел к пониманию, что истоки транзактного анализа были рождены вопреки нарциссическим ранам Берна, нанесенным ему психоаналитическим сообществом, и это привело к неразрешимой амбивалентности, которая, как мне кажется, стала преследовать транзактный анализ» (Cornell, 2020, р. 167-168).
Фанита Инглиш (личное сообщение Уильяму Корнеллу, 19 октября 2006 г.) писала: «Берн был очень противоречив по отношению к психоанализу и психоаналитикам. Несколько раз я слышала, как он говорил: “Я лучший сторонник Фрейда, чем психоаналитики” (а он был чрезвычайно начитан). В конце концов он возненавидел психоаналитиков. Большим ударом по его (нарциссическому) эго стало то, что психоаналитики не признавали его работу “Психика в действии”» (Cornell, 2020, р.168).
Ф. Инглиш (2010) позже подробно описала проявления нарциссизма Берна, отметив:
На самом деле я считаю, что грандиозные взгляды Эрика на исключительную ценность транзактного анализа, превосходящую любую другую систему терапии, даже если они были точными, привели к тому, что он презирал любые совместные контакты с современными терапевтами, если таковые были не его последователи... Затем позиция гордой изоляции, начатая самим Берном, к сожалению, слишком долго поддерживалась многими его последователями, включая меня, хотя мне и неприятно это признавать. В результате в Соединенных Штатах транзактный анализ утратил возможности для признания. (р. 209-210)
В статье, представленной в 1968 году на Международном конгрессе групповой психотерапии и опубликованной посмертно в журнале «Транзактный анализ», Берн (1973) заявил:
Прежде всего позвольте мне рассказать вам о том, что такое транзактный анализ. ...Во-первых, я хочу подчеркнуть, что транзактный анализ является независимым открытием. Это не что-то, что состоит из многих других теорий или “теории кресла”. Это эмпирическая теория, которая исходила из прослушивания людей в индивидуальной и групповой терапии. <…> Многие транзактные аналитики здоровы, счастливы, богаты и смелы. Так оно и есть. Они путешествуют по всему миру. Все они здесь [на конференции]. Смелость проявляется в том, что вы рискуете тем, на что другие терапевты не пойдут, а вы идете на это» (р. 68).
Эрик и коллеги на первой ежегодной конференции 1965 г. Eric, Ray Poindexter, Steve Karpman, unidentifiable man, Tom Harris, Joe Concannon (facing Poindexter)
В этих словах Эрика Берна много не только вдохновения, но и призыва к борьбе и обособленности. Известно, что сам Эрик Берн, как и некоторые его последователи, считал, что смешивать транзактный анализ с другими терапевтическими направлениями неприемлемо.
Эрик Берн в Вене с коллегами на международном конгрессе групповой психотерапии, 1968 г. Джэк Дюсэй, Клод Штайнер, Эрик, Пам Блюм
В речи, произнесенной перед Обществом групповой психотерапии «Золотые Ворота» в 1970 году и опубликованной посмертно в первом номере журнала «Транзактный анализ», Берн говорил с юмором, но в основном с сарказмом и явно нарциссическим оттенком: «Другими словами, грубо говоря, большая часть групповой терапии, проводимой в этой стране (под большинством я подразумеваю 51%), вероятно, с таким же успехом могла бы проводиться опытным мастером-скаутом». «…В некотором смысле весь процесс психоаналитической терапии звучит для меня как шутка, которую инструкторы рассказывают ординаторам: “Мы научим вас делать разные мелочи в операционной, но, когда дело дойдет до удаления аппендикса, вы должны быть такими же, как я”» (Berne, 1971, р. 9).
Сам Берн видел разницу между психоанализом и транзактным анализом в том, чтобы отдавать приоритет состоянию клиента и не спешить идти в более глубокий анализ. Его слова «Сначала вам станет лучше, а проанализировать мы можем позже» (Berne, 1966, р. 303). предполагали, что «пациент является полноправным членом человеческой расы; он имеет право присмотреться к терапевту точно так же, как и терапевт обязан присматриваться к пациенту» (Berne, 1966, р. 92). И именно подобный подход, по мнению Берна, мог мотивировать пациента идти дальше и глубже в анализ, чтобы захотеть осознать происхождение своих игр и продолжать терапию. Контрактный метод транзактного анализа предполагает равную вовлеченность клиента и специалиста и практически не предъявляет к клиенту требований, которые, по мнению Берна, предъявлял психоанализ, в котором терапевт занимает более авторитарную позицию. Такой подход действительно был нестандартным для психоанализа.
Вместе с тем Берн с большим уважением относился ко многим аспектам психоаналитической теории: практически во всех своих трудах он ссылался на источники психоаналитиков и писал о том, что транзактный анализ должен быть методом, сотрудничающим с другими подходами с целью благополучия своих пациентов. Именно в этом проявлении его психоаналитические корни оставались формирующими и питательными. Однако на публике он часто вел себя провокативно и высмеивал психоанализ как старомодный, что подтверждают записи его семинаров по социальной психиатрии, которые Берн вел по вторникам в вечернее время в Сан-Франциско. На этих записях, сделанных национальной образовательной телесетью, Берн часто саркастично критиковал психоанализ (Heathcote, 2016). Интересно и то, что Берн никогда не писал и не говорил на публике о том, что он продолжал принимать своих пациентов на кушетке, а многие психоаналитические принципы были неотъемлемой частью его мышления как транзактного аналитика.
Уильям Корнелл отмечает, что Берн испытывал некоторые колебания между своими нарциссическими ранами и здоровым нарциссизмом. Здоровый нарциссизм — это то, что дает свободу и прорыв творческой энергии, а также то, что помогало Берну изобрести транзактный анализ. Ошибкой Берна были насмешки над психоанализом, что вносило нарциссизм небольших различий (Cornell, 2020). Вероятно, Берну приходилось сталкиваться с нарциссическими проявлениями и со стороны психоаналитиков. В каком-то смысле мы можем предположить, что Берн не был принят психоаналитиками за его идею заключения контрактов и признания Взрослого клиента. Однако Берн признавал и настаивал на праве клиента самому определять, чего бы он хотел для себя, признавая тем самым способность клиента определять для себя с первой сессии то, о чем ему важно говорить и в чем важно быть услышанным.
Кабинет Эрика Берна в Сан-Франциско, Коллинс-стрит
История жизни Эрика Берна — это пример, который демонстрирует сложность человеческих отношений и их влияние на формирование социальных связей, в том числе через призму удовлетворения нарциссических потребностей. Хотелось бы отметить, что Берн не был просто автором теории — он был человеком, который стремился быть услышанным, признанным, принятым. Его транзактный анализ можно рассматривать как ответ на собственные жизненные переживания: желание ясности в коммуникации, стремление к равенству в отношениях и возможности структурировать внутренний мир личности через концепцию транзактного анализа.
Отказ в принятии в психоаналитическое сообщество мог быть для Берна не просто профессиональной неудачей, но и повторным столкновением с тем, что его идеи, идентичность и личный опыт не признаются «внутри системы». Это напряжение между желанием принадлежать и необходимостью сохранить свою индивидуальность стало, возможно, движущей силой его теоретического новаторства. Именно в этом контексте транзактный анализ можно рассматривать как альтернативный ответ на психоанализ: не отрицание, а переосмысление, в котором на первый план выходят диалог с клиентом, определение его мотивации и признание его Взрослой позиции с самого начала терапевтического процесса.
Таким образом, путь Берна от исключенности к созданию собственной парадигмы отражает не только профессиональную эволюцию, но и глубокую личную работу по интеграции нарциссических ран в более продуктивную творческую позицию. Его история демонстрирует, как через напряжение между признанием и отвержением рождается не просто теория, а пространство, где может быть услышан и признан другой, а возможно, и сам автор, который так в этом нуждался.
Заключение
Рассмотрение жизненного пути Эрика Берна через призму его теоретического наследия позволяет выдвинуть гипотезу о возможной взаимосвязи между личностными переживаниями, нарциссическими травмами и выбором направления в профессиональной деятельности. Потери, испытанные Берном — утрата отца, опыт антисемитизма и исключения из социальной группы, столкновение с отказом психоаналитического сообщества, — могли не только повлиять на его мировоззрение, но и способствовать формированию новой терапевтической модели, в которой ключевыми становятся доступность, ясность, а приоритет отдается состоянию клиента, чтобы мотивировать его идти дальше, сохраняя при этом терапевтическую беспристрастность.
Транзактный анализ с его структурой эго-состояний, сценарием жизни и анализом межличностных отношений (транзакции, игры и т.д.) может рассматриваться как концептуальный отклик на нарциссические дефициты — стремление к признанию и восстановлению чувства собственной ценности. В этом контексте представляется продуктивным поставить под сомнение представление о нейтральности выбора терапевтической модели и, напротив, рассматривать этот выбор как потенциальное отражение внутренних конфликтов и потребностей самого психотерапевта.
Эти наблюдения подводят к более широким вопросам, обращённым к профессиональному сообществу:
- В какой мере выбор терапевтического направления обусловлен не только профессиональными, но и глубоко личностными основаниями?
- Может ли выбор терапевтической модели, в частности транзактного анализа, стать способом проживания собственного внутреннего опыта?
- Что вы как психотерапевт знаете о своей нарциссической части?
- И как осознание этих взаимосвязей способно обогатить как личностное, так и профессиональное развитие специалиста?
Все эти вопросы я оставляю открытыми для дискуссии. При желании вы можете поделиться своими размышлениями на этот счет: @liliya_lu.
P.S. В процессе работы над данной статьей размышления о фигуре Эрика Берна и его наследии нашли отражение не только в теоретическом анализе, но и в творческом отклике. В качестве дополнения к статье я создала серию телеграм-стикеров, вдохновленных образом Берна и языком транзактного анализа.
Стикеры — это способ с улыбкой говорить о серьёзном, поддерживать коллег в диалоге и напоминать себе о том, почему мы выбрали именно этот путь. Приглашаю вас ознакомиться с ними и, возможно, использовать в своей профессиональной среде. Посмотреть стикеры можно по следующей ссылке: https://t.me/addstickers/EHrikBern.
Иллюстрации предоставлены архивами и специальными коллекциями UCSF
Об авторах
Лилия Геннадьевна Лукьянова
Автор, ответственный за переписку.
Email: lilia0606@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-8526-957X
ResearcherId: IVU-6704-2023
Частная практика онлайн, очно г. Санкт-Петербург; психолог (Московский государственный психолого-педагогический университет, 2020), арт-терапевт (Московский педагогический государственный университет, 2020), практикующий психолог в модальности транзактный анализ (Международный Институт Развивающего Транзактного Анализа, с 2023 – по настоящее время)
РоссияСписок литературы
- Berne, E. (1966). Principles of group treatment. Oxford University Press.
- Berne, E. (1971). Away from a theory of the impact of interpersonal interaction on non-verbal participation. Transactional Analysis Journal, 1(1), 6-13. https://doi.org/10.1177/036215377100100103
- Berne, E. (1971). Eric Berne – Portfolio of pictures. Transactional Analysis Journal, 1(1), 1.
- Berne, E. (1973). Transcription of Eric Berne in Vienna, 1968, IV international conference of group psychotherapy. Transactional Analysis Journal, 3(1), 63–72. https://doi.org/10.1177/036215377300300117
- Berne, E. (2010). A Montreal childhood.
- Cornell, W. F. (2020). Transactional analysis and psychoanalysis: Overcoming the narcissism of small differences in the shadow of Eric Berne. Transactional Analysis Journal, 50(3), 164–178.
- Cheney, W. D. (1971). Eric Berne: Biographical sketch. Transactional Analysis Journal, 1(1), 14–22.
- Drego, P. (1983). The cultural parent. Transactional Analysis Journal, 13(4), 224–227.
- English, F. (1981). Letters to John McNeel. Transactional Analysis Journal, 11(1), 46–49.
- English, F. (2010). Personal encounters with a flawed genius: Eric Berne. Transactional Analysis Journal, 40(3-4), 243–253.
- Lederer, A. (1996). The unwanted child. Transactional Analysis Journal, 26(2), 138–150.
- Jorgensen, E. W., & Jorgensen, H. I. (1984). Eric Berne: Master gamesman. A transactional biography (Vol. 915). Grove/Atlantic.
- Heathcote, A. (2016). Eric Berne and loss. Transactional Analysis Journal, 46(3), 232–243.
- Tilney, T. (2005). Dictionary of transactional analysis. John Wiley & Sons.
Дополнительные файлы