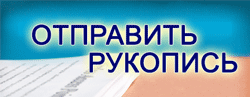Максим Раздобреев: «Моя задача — развить транзактный анализ на Дальнем Востоке и в Сибири»
- Авторы: Кочеткова-Корелова О.В.
- Выпуск: Том 5, № 2 (2025)
- Страницы: 52-56
- Раздел: "Я - О`кей, Ты - О`кей"
- Статья получена: 11.08.2025
- Статья одобрена: 11.08.2025
- Статья опубликована: 12.08.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/689047
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255252-56
- ID: 689047
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Журнал «Транзактный Анализ в России» продолжает знакомить читателей с преподавателями. Максим Раздобреев (г.Чита) рассказывает о том, как он сменил профессию и получил второе, психологическое, образование. Максим познакомился с методом благодаря книгам Эрика Берна и Михаила Литвака. В интервью Максим рассказывает о своём видении некоторых концепций транзактного анализа, о личном подходе к психотерапии через разные школы ТА. Собеседник журнала делится своим видением разных школ и типов запросов, с которыми они работают лучше. Также из интервью можно узнать, у кого учился сам Максим, какие преподаватели ТА повлияли на него, например Тони Вайт, с которым они поддерживают связь и обсуждают научные идеи и проблемы.
Из статьи можно узнать, чему можно научиться у этого преподавателя, а чего не стоит ожидать в контакте с ним.
Ключевые слова
Полный текст
— Максим, расскажите о себе: как вы себя ощущаете и позиционируете в мире ТА как преподаватель или как транзактный аналитик. С чего начались ваши отношения с ТА?
— Я пришел в транзактный анализ, в психотерапию, из организационной психологии. У меня есть хороший, хоть и непростой, эмоционально нагруженный клинический опыт: я работал в кризисном центре. Там были центр временного содержания несовершеннолетних и круглосуточный телефон доверия для детей и взрослых. Туда попадали разные дети, в том числе подростки, которые употребляли психоактивные вещества.
Транзактный анализ я долгое время изучал самостоятельно, потому что ещё не было тогда онлайн-образования, они в основном в пандемию ковида появились. Книги, которые были доступны на русском языке, прочитывались мною по несколько раз. Как бы странно ни прозвучало, но профессиональное развитие для меня стало возможным благодаря ковиду. Я живу далеко — за шесть тысяч километров от Москвы, шесть часов разница, — поэтому, конечно, 2020 год стал ключевым для меня в профессиональном плане. Я стоял перед непростым выбором: между защитой кандидатской и написанием СТА. Выбрал второе, уж коль скоро я смотрю в сторону именно частной практики, нежели преподавания в университете. Хотя я работал преподавателем в университете, но решил, что СТА для меня более актуально. Я окончил аспирантуру, но от написания кандидатской отказался.
— Вы читали книги по ТА. В какой момент сказали себе: интересно, пойду туда?
— А это было прямо про услышанное. Я как раз учился на втором курсе психологии управления персоналом, и на тот момент был начальником регионального отдела продаж в оптовой компании. У меня было человек сорок — люди в возрасте, опытные в торговле, а мне было двадцать два года. Мне было сложно, поэтому я после первого — экономического коммерческого образования — пошел учиться на психологию управления. Я искал, как же вообще выстроена система управления в организации, как налаживать деловые взаимоотношения с людьми. И мне попался диск с аудиокнигой Берна «Игры, в которые играют люди». Я, кстати, многие книги Берна услышал в формате аудиокниг, и образ Берна у меня соединился с голосом переводчика. Первый раз включил и вообще ничего не понял — на слух воспринять какие-то транзакции, какие-то там Родитель, Взрослый, Ребенок или эго-состояние было сложно. Я послушал минут 40 и забыл, решив, что это сложная научная штука и для практики вообще. А спустя года три-четыре мне попалась книга Литвака. Там было изложено попроще.
И я вспомнил, что где-то уже это слышал. И после этого стал снова, уже вдумчиво, слушать Берна. Что-то мне становилось понятно, может быть, правильнее сказать — так у меня возникла иллюзия понимания. Сейчас, конечно, отсюда, из текущего момента я смотрю на все иначе. Даже забавно вспоминать того себя.
А на тот момент у меня было ощущение, что я узнал вселенскую истину. Что теперь я знаю транзактный анализ и вообще психологию, психотерапию; я знаю, как жить, что я могу научить всех жить. Дальше я начал скачивать другие аудиокниги. Но до сих пор у меня любимая книга по транзактному анализу — Берна 1961 года. Я ее послушал раз пять и прочитал, наверное, раз двадцать, до сих пор ее перечитываю и нахожу что-то, на что раньше не обращал внимания. Каких-то моментов он просто коснулся вскользь, но там такая концентрация мысли, как тягучий сироп, который можно разбавлять, разбавлять, разбавлять, разбавлять, и он все равно будет сладким.
Примерно то же происходит с транзактным анализом. Если посмотреть на увеличивающийся список премий Берна, то каждый раз кто-то из транзактников ныряет дальше и глубже, и этот сироп оттуда вбирает какие-то капли, и все это создает что-то новое.
— Ваш путь в ТА: кто ваши учителя, как вы их выбирали?
— Просто гуглил, но даже в интернете была очень скудная информация, какой-то целостной программы обучения или места, где это централизованно можно посмотреть, тогда не было. Сейчас появились телеграм-каналы, сайты. Я читал хэндбук (знаю его практически наизусть, читал на английском), но ощущал дефицит информации. Тогда мне казалось, что стать сертифицированным транзактным аналитиком нереалистично. Условно, тогда один модуль стоил 10 тысяч рублей, он проходил в Москве или Санкт-Петербурге, а для меня это выливалось в разы большие суммы: перелет из Читы туда и обратно, гостиница, еда. И так надо минимум тридцать раз.
Я даже не думал о сертификации: для меня это было нечто подобное яхте за миллиард, которая есть в какой-то другой, параллельной, чужой жизни. Мой первый преподаватель Алла Далит, тогда она была СТА и ее часы не учитывались. Меня это вполне устраивало, ведь я не собирался сертифицироваться. Нужны были навыки, обучение — и это было хорошее обучение. Я ни разу не пожалел, что я обучался онлайн у Аллы в МИР-ТА, потому что само обучение полностью закрыло те потребности, которые у меня были на тот момент. И все равно оставалось много чего непонятного разрозненного. Мой терапевт посоветовала мне пойти на сертификацию и написать письменную работу именно для того, чтобы интегрировать теорию и знания в транзактном анализе, что письменная работа очень хорошо структурирует хаос в голове от количества концепций.
— Вы начинали сертификацию не для статуса?
— Конечно нет. Я живу в Забайкалье. Что такое сертифицированный транзактный аналитик здесь никто не знает. С точки зрения клиента это и вовсе не имеет никакого смысла. На жизни, на практике это никак не отражается. Но сам процесс — интегрировать теорию — мне был интересен. И это было, наверное, самое сложное испытание в моей жизни: я писал работу три года, каждый день, ставил себе план и писал. Помимо того, что я разобрался в транзактном анализе, я научился писать тексты, потому что до этого мне было легко говорить и достаточно сложно излагать мысли последовательно в двухмерном пространстве. Я начал писать СТА в июле девятнадцатого года, а в начале июля двадцать второго года я отправил ее на проверку.
— Чему у вас можно научиться, какие вы курсы проводите, сами создали какой-то курс или преподаете базовые вещи в ТА?
— Вообще, если говорить глобально, моя задача — развить транзактный анализ на Дальнем Востоке, в Сибири, потому что здесь нет вообще транзактного анализа, лишь единичные специалисты, которые этим интересуются. Я считаю, что хорошо понимаю эволюцию школ транзактного анализа. В контакте со мной можно научиться пониманию особенностей школ транзактного анализа и как их применять с учетом особенностей клиента; с какими типами клиентов, с какими проблемами и запросами могут разные школы работать. Методы какой школы более эффективны в том или ином случае. Допустим, редиссижен эффективен с невротическими клиентами первого и второго тупика. Интегративный транзактный анализ, реляционный транзактный анализ хорошо работают с пограничным уровнем, где есть расщепление, с третьеми тупиками. Интегративный ТА прекрасно работает с травмами, как с кумулятивными, накопленными, так и просто с острыми травмами и ПТСР. Большой интерес к сотворческому транзактному анализу в части терапии без регрессии. И так далее.
— Мне кажется, я первый раз слышу от преподавателя подход не по концепциям ТА, а именно по школам. Это что-то новое для меня.
— Я постоянно говорю про разницу подходов и что терапию можно делать по-разному, где только можно. Недавно я проводил по терапии характера, по привязанности в терапевтических отношениях, короткий семинар, двенадцатичасовой. Был семинар по сертификации в транзактном анализе. Мне интересно сделать семинар немножко критический о психотерапии как рэкетном процессе. Иногда психотерапия может быть не только полезной, но и выполнять некоторую функцию ухода от реальности. Или терапевтические группы по отношениям: то есть вместо того, чтобы заниматься реальными отношениями, я читаю книжки про отношения и хожу на терапевтические группы.
— Максим, если я правильно понимаю, то в России вы самый молодой сертифицированный преподаватель ТА?
— В России, наверное, да. Мне 40 лет. На Украине есть Анна Головань, она младше меня. Кстати, я сейчас выгляжу моложе, чем 10 лет назад, судя по фотографиям. Думаю, это все годы терапии.
— Как вам быть самым молодым российским сертифицированным преподавателем?
— Я думаю, нет корреляции между возрастом и вашими компетенциями как преподавателя. Допустим, та же Анна Головань — прекрасный преподаватель, и я у нее учился, она очень на меня повлияла. Контракт на СТА у меня был изначально с Сергеем Бухаруком, но в 2022 году я его перезаключал и защищался уже с Еленой Соболевой. Она тоже повлияла на меня, как и Борис Володин. Тони Вайт — я был на его семинарах в Питере, когда он прилетал в семнадцатом году, учился у него онлайн, мы переписываемся и размышляем вместе над какими-то сложными вопросами. Вот недавно размышляли над некоторыми двойными транзакциями, о которых Берн вкратце упомянул в книге «Что вы говорите после того, как сказали здравствуйте».
— Почему решили стать преподавателем именно транзактного анализа, ведь вы даже не собирались, как я понимаю, это делать?
— Профессиональные спортсмены не могут перестать заниматься спортом, их мышцы требуют постоянной нагрузки, иначе — будут болеть. Видимо, мой организм тоже привык к некоторой нагрузке и это стало потребностью: психика просит возрастающей интеллектуальной нагрузки. Вторая причина: я все-таки преподавал в университете, и мне это интересно. В школе я вообще хотел быть учителем истории, но не пошел поступать в педагогический, потому что зарплата у учителя истории в начале двухтысячных годов была очень маленькой. То есть тяга к этому была. И еще момент: когда что-то знаешь, то это хочется куда-то транслировать, иначе это внутри начинает киснуть, разрывать, и тогда я начал бы клиентов перегружать немножко психпросвещением.
— В чем ваша суперсила как преподавателя?
— Помню фразу моей учительницы математики со школы: нельзя научить — можно научиться. Сто процентов — нельзя загрузить знания в голову, как в компьютер, нельзя загрузить навыки. Процесс конструирования знаний — это развитие ассоциативно-теменной коры. Когда человек берет разную информацию, рефлексирует, думает, выстраивает нейронные сети. Просто вливать информацию невозможно, какой бы крутой ни был преподаватель.
Поэтому некоторая, такая, условно говоря, эффективность преподавателя в том, что он может фассилитировать этот процесс включения обучающегося в активность конструирования какой-то информационной речевой модели мира.
— Есть что-то такое, что вы как преподаватель можете использовать как ваш сильный инструмент?
— Я приглашаю и поддерживаю развитие собственного способа думать. Конечно, когда мы осваиваем новую профессию, нам важно иметь заимствованную идентичность, ориентироваться на каких-то мастодонтов, авторитетные фигуры и им подражать. Так же, как ребенок подражает бабушке, которая печет пирожки, или папе, который забивает гвозди. Но это должно привести в какой-то момент к кризису, где будет сформирована своя собственная идентичность. Это то, к чему я приглашаю обучающихся. Хотя бывает непросто, очень соблазнительно взять готовое — вот делай так, и все получится. Это может фрустрировать, но именно эта фрустрация, на мой взгляд, позволяет сформировать собственный стиль. Я тоже работаю с перерешением, но я никогда не сделаю перерешение так, как делали Гулдинги. Никогда не буду делать терапию, как Берн или Тони Вайт, я сделаю ее как Максим Раздобреев.
Мы обучаем взрослых людей, и важно, чтобы они тоже формировали свой индивидуальный стиль, свое индивидуальное понимание процесса терапии.
— Как вы думаете, что студенты ценят вас больше всего?
— Рискну предположить, что структурность, ясность мышления, интерактивность и приглашение к диалогу, к размышлению в диалоге, что здесь можно высказывать любые мысли, задавать любые вопросы, нет правильных и неправильных мыслей и вопросов. Давайте вместе разбираться и продвигаться, развивать теорию ТА, давайте учиться вместе через совместное сотворческое обучение.
— А с чем им сложно с вами как преподавателем?
— Я могу рассказывать достаточно сложные вещи, забегая вперед, и понимаю, что пока эту информацию еще не на что положить, нет базы, матрицы, за что бы она зацепилась. Я могу не учитывать подготовку. И я не очень щедр на поглаживания. Скорее поразмышлять, подумать, но прямо поддержка и поглаживания — не про меня.
— То есть, перефразируя, если студент ищет какого-то очень теплого преподавателя, то это скорее не к вам. К вам — за структурой, четкостью, за пробросом в будущее на опережение, за задачами со звездочкой. Какой ваш драйвер активнее всего проявляется в преподавании?
— Думаю, два: «Будь совершенным» и «Спеши».
— Какая концепция ТА ваша самая любимая?
— Эго-состояния. Это ядро транзактного анализа. Все остальное исходит из эго-состояний.
— С какой концепцией и моделью сложнее работать вам как преподавателю, и какую вы меньше всего используете? Поглаживания (моя фантазия)?
— Иногда мне кажется, да, эта концепция окрашена именно штайнеровской атмосферой Калифорнии семидесятых, хиппи. На самом деле поглаживания могут приводить к инфляции и раздутию эго, нарциссического пузыря, и это может быть не полезно. И я, честно скажу, не люблю концепцию личностных адаптаций, считаю ее сложной, нагруженной и не отражающей глубинной структуры личности и характера, в отличие допустим, от концепции большой пятерки или типологии. Концепцию Памелы Левин по стадиям развития тоже не очень люблю, мне там не хватает какой-то научной обоснованности, она мне кажется немножко спекулятивной.
— Ближайшая зона вашего развития?
— Это подготовка к экзамену TSTA, развитие навыков преподавания, обучения, ведение супервизий, каскадных супервизий; это то, чему посвящено сейчас основное мое время.
— Ваше кредо, девиз как преподавателя?
— Фраза про то, что нельзя научить — можно научиться, мне нравится.
— Есть ли у вас тотемное животное, с которым вы себя ассоциируете или считаете вашим талисманом?
— Талисмана нет, но ассоциирую себя с котом, какие-то черты характера похожи на кошачьи.
— Сколько у вас студентов на контракте и кто уже защитился?
— У меня еще никто не защитился; три студента на контракте, один фактически дописал письменную работу, вносит правки; думаю, что к сентябрю эта работа будет готова.
— Где у вас можно поучиться?
— Сейчас у меня одна очная группа в Чите, она закрытая. С 27 сентября стартует онлайн-группа (1 год 202 курса). Ну и конечно, я открыт для каких-то предложений о сотрудничестве именно в дальневосточном регионе.
СПРАВКА ЖУРНАЛА «ТА В РОССИИ»
Максим РАЗДОБРЕЕВ
- Психолог первой квалификационной категории
- CTA (P) сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии
- PTSTA (P) предварительный тренирующий и супервизирующий транзактный аналитик
- Член комитета по стандартам обучения Санкт-Петербургской Организации Транзактного Анализа
Об авторах
Ольга Владимировна Кочеткова-Корелова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ok810@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5059-3455
Главный редактор журнала «Транзактный Анализ в России»; частная психологическая практика, магистр психологии; член СОТА и EATA
РоссияСписок литературы
Дополнительные файлы