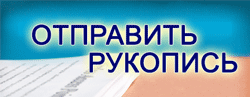Ирина Пингарева: «Мастерство достигается упражнениями!»
- Авторы: Мхитарян А.О.
- Выпуск: Том 5, № 2 (2025)
- Страницы: 57-61
- Раздел: "Я - О`кей, Ты - О`кей"
- Статья получена: 11.08.2025
- Статья одобрена: 11.08.2025
- Статья опубликована: 12.08.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/689049
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255257-61
- ID: 689049
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Интервью с преподавателем, сертифицированным Международной Ассоциацией Транзактного Анализа, Ириной Пингаревой о том, как она выбрала транзактный анализ и об особенностях своего преподавания.
Ключевые слова
Полный текст
— Расскажите о себе (визитка — статусы, регалии, опыт, направления работы).
— У меня психоаналитическое мышление: я изначально пришла из психоанализа и до сих пор мыслю именно так. Но работать как классический психоаналитик у меня не получилось — просто не совсем мой темперамент. И вот здесь очень органично подошёл транзактный анализ.
Сейчас я идентифицирую себя как транзактного аналитика, использующего и другие подходы. На сегодняшний день — с 13 июня 2025 года — у меня есть новый статус PTSTA-p в Международной ассоциации Транзактного Анализа (ITAA). Это означает, что я имею право супервизировать и преподавать транзактный анализ.
Также я телесный психотерапевт. Это направление у меня тесно интегрировано с транзактным анализом. Я не использую телесную терапию как отдельный метод, скорее — как инструмент, который помогает клиентам выражать чувства через упражнения, телесные практики, дыхание и другие техники.
— С чего начались ваши отношения с ТА?
— Мы учились в Восточноевропейском институте психоанализа, и в рамках знакомства с разными модальностями к нам приходили представители разных направлений. Помню, кто-то показывал НЛП, кто-то рассказывал о гештальте, ещё кто-то — о чём-то своём. И вот пришла Татьяна Ильинична Сизикова. Я вообще человек, который не опаздывает, но именно на неё я опоздала — зашла уже во время занятия, села где-то в конце.
Она рассказывала и вдруг показала эти три кружочка. Я подняла руку и спросила: «А что это за кружочки?» — и Татьяна Ильинична снова всё объяснила. И тут меня буквально накрыло. У меня много лет был вопрос, с которым я не могла разобраться в собственном анализе: почему моя мама, которая меня любит, обожает, заботится, завидует мне? Я это чувствовала, но никак не могла понять, как такое вообще возможно.
И вот, увидев эти кружочки: Внутренний Ребенок моей мамы завидует моему внутреннему ребенку. Это было подобно вспышке. Я не знала, что это транзактный анализ. Я просто впервые получила настоящий ответ. И второй ответ был ещё круче: Татьяна Ильинична говорила, как эти состояния — Ребёнок, Родитель и Взрослый — переключаются внутри нас, как они могут быть смешаны. И я влюбилась. В кружочки.
Потом я уже рассмотрела Татьяну Ильиничну — она мне тоже понравилась. Я подошла, спросила, когда у неё будет обучение. Я не знала ни цены, ни условий, ни сроков. Но она сказала: «Осенью». И как только я окончила институт, сразу пошла учиться транзактному анализу.
Это был настоящий восторг. Восторг от кружочков.
— Ваш путь в ТА, ваши учителя.
— Моим первым учителем в транзактном анализе была Татьяна Ильинична Сизикова. Именно она впервые показала мне эти знаменитые три кружочка, с которых, можно сказать, всё и началось. Позже она пригласила в нашу группу Татьяну Анистратенко — она тогда жила в Ростове, не знаю, где сейчас. Татьяна стала нашим первым сопровождающим психотерапевтом и показывала, как ТА работает в действии.
Когда мы начали расти, становиться более зрелыми как студенты и практики, в моей жизни появилась Елена Соболева. Я стала её клиенткой, она стала моим терапевтом. Много лет она была рядом со мной. Именно она пригласила в нашу работу Марейку Арендсен Хейн. Мы перешли к ней в сопровождение, и у нас была индивидуальная групповая терапия на протяжении восьми лет.
Я считаю, что Марейке очень сильно на меня повлияла. Она работала интегративно, миксовала транзактный анализ с телесными упражнениями, вербальной терапией, НЛП, гештальтом — и это мне было очень близко. Я и сама всё время параллельно училась: немного гештальта, системная терапия, детская, подростковая, психодрама — всё это по чуть-чуть, но в совокупности дало мне широкий инструментарий. И Марейке, по сути, дала мне первый настоящий импульс работать с группами — так, как мы сейчас делаем марафоны с Аллой Далит. Думаю, она тоже была немного в духе Гулдингов — свободная, творческая, смелая.
Конечно, очень важным учителем для меня стал Владимир Гусаковский. Я много лет брала у него супервизии, и он провёл меня через создание и оформление моей письменной работы. Ещё один человек, которого я с благодарностью вспоминаю, — Дмитрий Иванович Шустов. Я участвовала в его терапевтической группе, и это был важный этап.
Я выражаю отдельную благодарность Марие Петровой (PTSTA-p) за помощь с подготовкой к тренингу TEW, для получения статуса.
Анита Маунти тоже сыграла свою роль: она приезжала в Россию, вела семинары. Это были, скорее, разовые встречи, но очень яркие и запоминающиеся.
Кажется, я назвала всех ключевых фигур, которые действительно повлияли на мой путь в транзактном анализе. Возможно, кого-то не упомянула, но вот те, кто были особенно важны, — перед глазами.
— Чему можно у вас научиться? Каким курсам/программам вы обучаете?
— Я люблю обучать ремеслу. Мне важно, чтобы всё, чему я учу, было логично, стройно, последовательно. Это, наверное, идёт от моего первого образования: я филолог, ценю хорошую литературу, умею анализировать тексты и видеть в них структуру. Поэтому в работе я стремлюсь к тому же: чтобы из одного вытекало другое, чтобы даже сложные вещи становились простыми и понятными.
Я не про вдохновение и гениальность, я скорее ремесленник. Мне нравится натаскивать — оттачивать навыки, повторять, видеть конкретный прогресс. У меня есть опыт преподавания в детском саду и в школе, и это сильно повлияло на мой подход. Я умею учить так, чтобы знания укладывались в голове, как пазлы, — с опорой на структуру, логику, телесные и эмоциональные отклики.
Из программ, которые я веду или вела:
- Супервизии — особенно люблю их за возможность разбирать практические ситуации, искать логику и системность в сложном.
- «Терапевтические навыки» — практический курс для психологов по отработке навыков.
- «Детство на скалах» — тренинг для взрослых детей алкоголиков (уже завершён).
- «Возьми себя в свои руки» — интеграционный клиентский тренинг без участия профессиональных психологов. Очень тёплая и глубокая работа.
- «Взрослые дети незрелых родителей» — тоже клиентский формат, который, возможно, будет переработан и расширен в профессиональную программу (например, о пограничных матерях).
- «Газлайтинг» — программа для широкой аудитории, не только для психологов.
Сейчас мне особенно интересно развивать обучающие курсы для профессионалов, особенно в области транзактного анализа, с упором на практику, навыки и мышление терапевта.
— Почему вы решили стать преподавателем именно транзактного анализа?
— Потому что ТА отвечает тому, что мне близко: ясность, структура, простота, логика. Мне важно, чтобы всё было объяснимо — без избыточных усложнений, чётко, по полочкам. Именно в этом я вижу силу транзактного анализа.
Да, я люблю концепцию уровней обесценивания — она для меня ясная и практичная. А вот сама матрица — слишком сложна лично для меня. Я знаю, что, например, Алла Далит прекрасно в ней ориентируется и даже её любит, но мне ближе чёткие, гибкие и в то же время простые инструменты.
В отличие от психоанализа, где многое «растекаемо» и допускает множество разночтений, в ТА всё чётко, логично и лаконично. И именно поэтому его удобно преподавать. Он даёт мощный вау-эффект — особенно у тех, кто впервые сталкивается, например, с концепцией внутреннего токсичного диалога. Это даёт ощущение открытия, и видеть это — большая радость.
— А в чём ваша суперсила как преподавателя?
— Наверное, в умении быть рядом с тем, кто только учится, — как с ребёнком, который пока не умеет держать ручку. Я могу «взять за руку» и пройти с ним этот путь — не вместо него, а вместе с ним. Я помню свою первую учительницу — ей было всего 21, она была немка, очень красивая, звали её Раиса Артуровна Франц. Она брала мою руку в свою, и у меня сразу получались самые красивые крючочки и буквы. Вот это ощущение, что кто-то рядом, что кто-то помогает, — оно очень важное.
И мне по-настоящему интересно это делать. Я люблю выращивать — бережно, постепенно, с вниманием к тому, кто передо мной.
— Кто ваши студенты? Опишите их.
Мои студенты очень разные — по возрасту, опыту, бэкграунду. Были и начинающие специалисты, и психологи с большим стажем, особенно в Алма-Ате, где я вела программу по навыкам: там были в основном гештальтисты, очень опытные. Но объединяет их не это.
Если говорить про внутреннее качество — это люди, которые готовы вкладываться, не боятся ошибаться и бросать вызов самим себе. Они увлечённые, живые, им действительно интересно разбираться в том, «как оно устроено». И это чувствуется.
Я наблюдаю, как мои студенты растут, как меняется их стиль работы. Например, я вижу, как один студент вошёл в супервизионную группу и буквально «заземлился» рядом с опытными коллегами, как они опыляют друг друга. Это невероятно вдохновляет.
— Как думаете, что ваши студенты ценят в вас больше всего?
— Наверное, включённость. У меня действительно индивидуальный подход — я держу фокус на каждом. У всех супервизантов есть личная карточка, где я отслеживаю динамику, вижу, над чем важно поработать, даже если не всегда озвучиваю это сразу.
Я замечаю зоны роста, могу подсветить их бережно, но точно. Это искренний интерес к человеку и его процессу.
Говорят ещё, что я щедро делюсь всем, что знаю, — не оставляю «за кулисами». И наверное, ещё — что я умею называть вещи своими именами. Это даёт ощущение определённости, облегчения, запускает движение
— А с чем они испытывают сложности в отношении вас?
— Иногда я слышу, что для кого-то моя речь — сложная, запутанная. Хотя для других — наоборот, всё очень понятно. Это вопрос индивидуального восприятия.
Иногда мой стиль, где я «нянчусь» с кем-то, может вызывать у кого-то раздражение: мол, мы тут взрослые. Но я всё ещё в поиске своего преподавательского стиля: читаю сейчас Труди Ньютон, Джули Хэй, смотрю, примеряю. Думаю, это живой, продолжающийся процесс.
— Какой ваш драйвер активнее всего проявляется в преподавании?
— Ну, думаю, «Будь совершенным» и «Радуй».
— Какая модель ТА ваша самая любимая?
Функциональная модель эго-состояний — моя первая и самая любимая. Потому что через кружочки можно объяснить всё. Даже если не знаешь, с чего начать, — начни с кружочков, и дальше станет понятно.
Второе моё влюблённое место — концепция адаптаций. Это, на мой взгляд, гениальное объединение акцентуаций, психоаналитического взгляда, детских защит, типичных реакций — и всё это собрано в логичную, стройную структуру. Очень люблю.
Отдельный восторг — концепция тупиков.
То, что психоанализ описывает туманно, ТА раскладывает чётко: как возникает торможение, где блок, как он удерживается. Всё понятно, всё наглядно. То же касается описания переноса, контрпереноса и сопротивлений: ТА делает это на языке действий, процессов и даже схем — это дорогого стоит.
Ну и, конечно, жизненные позиции: «Я Окей — Ты Окей».
Это философски самая трудная для практики идея. Потому что как только кто-то становится «другой», критика включается автоматически. Но держаться в «Окейности» — это постоянный вызов и путь. И очень человеческий путь.
— А с какой моделью или концепцией ТА чувствуете сложность или меньше ее используете?
— Да, есть. Например, матрица матрица обесценивания — та, где описаны драйверы, предписания и программы.
Я её знаю, понимаю формулу, как её преподают, — в частности так, как объясняла Татьяна Ильинична. Но она не универсальна. Иногда она хорошо ложится на случай, но чаще — не даёт чёткого алгоритма, и тогда становится скорее метафорой, чем рабочим инструментом.
Ещё одна модель, которую я использую осторожно, — матрица обесценивания.
Мне очень близка идея уровней обесценивания, она работает и понятна, но сама матрица — перегружена, на мой взгляд. Неинтуитивна. Не всегда даёт ясность и требует гораздо больше усилий, чтобы передать её простым языком. А для меня как преподавателя это важный критерий.
— Расскажите о вашей зоне ближайшего развития?
— Сейчас мой фокус на развитии терапевтических навыков в других подходах.
Я собираюсь учиться краткосрочному консультированию.
Также рассматриваю эриксоновский гипноз: материалы уже прочитаны, активно интегрирую техники в работу.
И конечно, жду семинаров Ричарда Эрскина. Все его предыдущие встречи оказались для меня вовремя и в точку — и в моей терапии, и в работе с клиентами.
Из преподавательских планов: вести 202 курс ТА; готовлюсь к преподаванию 101-го курса и в этом тоже вижу зону роста.
— Ваше кредо/motto/девиз как преподавателя?
— «Для меня невозможного мало. Не сдавайся».
Эта фраза, сказанная персонажем пьесы Островского «Бесприданница», когда-то стала для меня важной опорой. И хотя сказана она была совсем в другом контексте, в моей жизни и профессии она стала лейтмотивом.
Я выросла в семье трудоголиков, где «не сдавайся» — это не просто слова, а способ жить. Я не считаю себя гением — но я ремесленник, который верит в силу последовательности, навыка и труда.
Мне также близка идея из философии Лао-Цзы:
«Если хочешь быть первым — стань в конец очереди».
— Если бы у вас было (а может быть, есть) тотемное животное — кто это? Опишите его.
— Да, это орёл. Причем белоголовый.
— Где можно у вас учиться?
— В декабре в Санкт-Петербурге стартует новый обучающий курс по транзактному анализу — «202-й курс ТА». Это часть большой программы МИР-ТА, которая будет проходить офлайн на территории клуба «Я!ТА», являющегося также центром МИР-ТА. Занятия будут проходить в формате «тактами»: один такт длится 7 недель, то есть встречи будут проходить примерно раз в полтора месяца.
Организационно и юридически программа оформляется через МИР-ТА: все документы сертифицированы, обучение проходит по лицензированной образовательной программе, а административные контракты заключаются напрямую с МИР-ТА. Это означает, что курс доступен для преподавателей и студентов уже в этом году. Мы приглашаем группу от 25 до 30 человек.
— Есть ли что-то важное, о чём вы хотели бы рассказать дополнительно?
— Да, есть. Для меня этот курс — не просто обучающая программа, а реализация давней мечты. Когда мы с Юлией, руководителем МИР-ТА, обсуждали сотрудничество, она сказала: «Сделай программу своей мечты». Это дало мне внутреннюю свободу и вдохновение.
Пространство клуба «Я!ТА» позволяет реализовать мой любимый подход — телесно-ориентированное обучение. Вместо стандартной рассадки в зале будут пуфы, ковры, возможность сидеть, лежать, двигаться — чтобы каждому было по-настоящему удобно. Это создаёт живую, поддерживающую атмосферу, в которой участники могут учиться в контакте с собой.
Я делаю упор на развитие практических навыков: начиная с первой сессии будет введена техника «операции Берна», которую часто оставляют в тени. Включу и гипнотические, и парадоксальные техники, активные интервенции, которые позволяют быстро и эффективно оттачивать консультативные навыки. Отдельное внимание будет уделено телесным сценариям — это моя особая область интереса, и я рада, что теперь смогу полноценно её демонстрировать в группе.
Мы будем работать с флипчартами, писать, рисовать, проживать материал всем телом. Мне кажется, это будет уникальное, глубокое обучение, в котором соединяются знание, опыт, творчество и свобода.
СПРАВКА ЖУРНАЛА «ТА В РОССИИ»
Ирина ПИНГАРЕВА
Клинический психолог, психоаналитик, предварительный супервизор и преподаватель транзактного анализа (PTSTA-p), телесно-ориентированный терапевт, автор тренингов и семинаров.
Об авторах
Александра Оганезовна Мхитарян
Автор, ответственный за переписку.
Email: sasha.mkhitaryan@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8687-7174
ResearcherId: AAG-2854-2022
психолог, частная практика, ведущая подкаста «Что-то на окейном»
РоссияСписок литературы
Дополнительные файлы