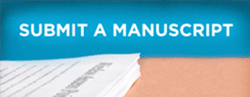TA: first steps in Russia
- Authors: Samoilova A.I.1,2
-
Affiliations:
- International Institute of Developing Transactional Analysis (MIR-TA/IIDTA)
- HSE University
- Issue: Vol 5, No 2 (2025)
- Pages: 72-79
- Section: History of Transactional Analysis
- Submitted: 11.08.2025
- Accepted: 11.08.2025
- Published: 12.08.2025
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/689057
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20255272-79
- ID: 689057
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the history of the development of transactional analysis in Russia and is based on the recollections and professional experience of Marina Solomonovna Sokovnina, one of the founders of the Russian TA community. It traces the development of the method from the first seminars conducted by Tom Frazier and other international trainers in the 1990s to the establishment of(SITA, the creation of a system for training specialists, and the development of ethical standards. Special attention is given to the first educational programs, the specifics of knowledge transfer under conditions of limited resources, the contribution of key foreign trainers, as well as the gradual evolution of the professional community—from a competitive atmosphere in the early years to collaboration and mutual support. The text also describes the difficulties of this period, including the lack of literature in Russian, the need for translation, dual relationships, financial constraints, and the cultural specifics of how the ideas of transactional analysis were perceived in the Russian context.
Full Text
— Марина, почему вы выбрали когда-то давно психотерапию, которая тогда еще не считалась престижной профессией?
— Для меня важнее была не престижность, я не думала тогда (да и потом тоже) о престижности, для меня было важнее ощущение миссии. Мой выбор сложился из семейной истории: прадед был раввином, дед — учителем, бабушка — акушеркой (раньше это называлось повитухой второго разряда); отец — инженер в области точной механики и оптики, мать работала химиком с радиоактивными материалами, с интересом к культуре. Я выбрала клиническую психологию на третьем курсе университета. С этого момента мои преподаватели были врачами. Среди них особенно выделялся Дмитрий Борисович Карвасарский, позже — главный психотерапевт страны.
— Как началась ваша встреча с транзактным анализом?
— Моя встреча с ТА состоялась задолго до того, как было организовано обучение транзактному анализу в России. В 1985 году одна моя знакомая, психолог Вера Сорина, перевела книгу Харриса «Я — о’кей, ты — о’кей». Я пришла к ней на тренинг и брала несколько личных консультаций. В результате я смогла бросить курить и еще некоторые вещи изменила в своей жизни, отсюда появился интерес к данному методу.
— Вы уже были практикующим психологом. Что произошло после прочтения первой книги по ТА, какой была следующая?
— Следующей книгой в 1992-1993 годах был «Современный транзактный анализ» в переводе Дмитрия Касьянова. Эта книга уже давала концепцию транзактного анализа в системе, по определенному плану. С книгами Эрика Берна я познакомилась позднее. Но то, как писал Эрик Берн, мне не нравилось: в моем понимании, у него слишком много юмора, слишком много иронии по отношению к людям, о которых он пишет, иллюстрируя теоретический материал примерами, и его манера излагать материал мне очень мешала, хотя я сама люблю шутить.
— Что происходило внутри вас в тот момент — не как у профессионала, а как человека, ищущего смысл и направление? Что именно в ТА оказалось для вас внутренне необходимым?
— Изначально я собиралась поступать в политех, но внезапно поняла: мне нужно искать не только профессию, но и ориентиры для самой жизни. Поэтому выбрала психологию. После учебы и первых лет работы пришло разочарование: казалось, что психология в стране оторвана от глубинных проблем личности и во многом остается инструментом системы, а не человека. Я стала искать ответы в духовных практиках, религии, эзотерике.
Но именно в транзактном анализе я впервые почувствовала, что нашла то, что искала. Для меня это было открытием: гуманистический взгляд на человека, ясная структура личности, в которой внутренние диалоги и прошлый опыт складываются в целостную картину. Это дало чувство опоры, которого мне так не хватало. Там, где духовные практики иногда расшатывали внутренние конструкции и оставляли людей уязвимыми, ТА предложил основу, объединяющую гуманизм, глубину и ясные ориентиры.
В девяностые, когда «железный занавес» приоткрылся и в Россию стали попадать переводы западных книг, на фоне общего идеологического застоя массово возникали кружки эзотерики, движения вроде кришнаизма, йоги, рейки, суфийских практик, астрологии, целительства. Часто эти группы вели люди без серьезной подготовки, и последствия для участников оказывались тяжелыми: кто-то оказывался в психиатрических клиниках, кто-то терял друзей, профессию, семьи, попадая в зависимость от харизматичных лидеров. Я не против духовных поисков — я за то, чтобы ими занимались компетентно и ответственно.
В то время как наша психология еще была ориентирована на коллектив и не умела помогать человеку стать автономным, транзактный анализ дал мне то, чего я так искала: смысл, структуру и уважение к человеку как к личности.
— А как все начиналось — те первые группы, первые семинары? С кем вы начинали учиться вместе?
— В марте 1992 года меня пригласили в группу Дмитрия Касьянова, где Дмитрий проводил семинары по транзактному анализу. Я очень удачно пришла, потому что через несколько дней открывался семинар Тома Фрезера. Если бы я не попала на этот семинар, то не попала бы в первую клиническую программу и в учредители СИТА1.
Я начала свое обучение транзактному анализу в 1992 году у Тома Фрезера, пришла уже в сформированную группу. Его демонстрации терапевтической работы в рамках учебных семинаров по психотерапии стали для меня новым опытом: он умел работать не называя вещи своими именами. Например, иногда человек не может рассказать о своей травме, сексуальном насилии или другом виде оскорбления и унижения. Том Фрезер не боялся идти сквозь боль и давал возможность постепенно встретиться с этим опытом на том уровне, на котором это было возможно в тот момент для человека. Это была работа через доверие и постепенное приближение к травматической теме, когда слова приходят только тогда, когда появляется внутренняя опора.
Такой подход был для меня новым: я увидела, что можно работать очень глубоко .
— Чья инициатива была ключевой для рождения организации СИТА?
— Мое мнение, что ключевая инициатива принадлежала Дмитрию Касьянову и Татьяне Сизиковой, потому что Дмитрий собрал вокруг себя инициативную группу людей, которые хотели использовать ТА в своей профессиональной деятельности, и к ним присоединялись еще люди, которые хотели использовать ТА для своего личного развития. Татьяна Сизикова написала письмо в одну из международных организаций, что очень хочет учиться транзактному анализу.
Скорее, имела место идея необходимости создания официально существующей группы. В один из своих приездов в Россию Том Фрезер сказал: «Если вы не зарегистрируетесь как общественная профессиональная организация и не вступите в ЕАТА, я не смогу к вам приезжать, потому что билет на самолет из Америки к вам стоит очень дорого. Я тогда не смогу получать финансовую поддержку на приобретение билета от профессионального сообщества».
Итак, это был последний, как говорится, «вольный семинар», нам пришлось зарегистрироваться. Регистрацией организации занимался преимущественно Дмитрий Касьянов. Он же написал первый устав и ходил по всяким организациям, в том числе в министерство юстиции. 12 человек, в число которых входили Дмитрий Касьянов, Светлана Князюк, Татьяна Сизикова, Татьяна Глизнецова, Жукова Елена, Владимир Гусаковский, Елена Соболева, Марина Соковнина, Юрий Ковалев, Марина Ковалева, Марина Клишева, Ирина Соболева, собрали по тысяче рублей. Это были деньги для уставного капитала, который был обязателен, без него не регистрировали. Это был март 1993 года. Так мы стали первыми учредителями СИТА. А день рождения СИТА — март 1993 года.
— Были ли у вас сомнения или моменты, когда хотелось все оставить?
— Нет. Когда я увидела, как работает Том Фрезер — с какой эмпатией и бережностью, особенно в работе с травмой, сколько в нем искренней любви к человеку, — я окончательно утвердилась в своем выборе. Это было первое значимое влияние на меня. Я поняла точно: хочу научиться работать так же. Том умел работать с самыми ужасными историями и оставаться рядом с человеком, шаг за шагом проходя этот путь вместе. Он разделял боль, помогал вынести ее и именно этим давал возможность для исцеления.
Также я скопировала такое качество, присущее многим преподавателям, которое назвала бы щедростью. Хочу ко всему прочему добавить, что все, кто приезжали, были личностями. То ли в ТА приходят такие люди, то ли ТА делает их такими. О каждом можно что-то сказать, открывающее его как незаурядного человека.
Все, кто когда-либо сдавал экзамен (любого уровня СТА, РТSТА, ТSТА) в транзактном анализе из нашей организации, сдавали его в соответствии с международными стандартами, которые утверждены ЕАТА и МАТА. Экзамен состоит из письменной и устной части, для каждой части разработаны критерии для их оценки. Такой подход был для меня новым: я увидела, что можно работать очень глубоко, уважая темп и готовность клиента, и при этом не травмировать его повторно.
— Возникали ли при обучении проблемы из-за непонимания, основанного на различии культур?
— Трудность была в том, что необходимой литературы на русском языке не было, и особенно трудно было тем, кто не знал английского языка. Английский язык считался и продолжает быть официальным языком ЕАТА. Серьезные статьи, дающие представления о методиках психотерапевтической работы, были на английском; все, что печаталось на русском, скорее воспринималось как популяризация ТА.
Но мы получали поддержку международного ТА-сообщества. Преподавателям, приехавшим в рамках учебной программы, компенсировались пятьдесят процентов от стоимости проезда или перелета, в зависимости от того, какой вид транспорта использовался. Вся остальная стоимость уточнялась в переговорах с тренером. Одни просили полную оплату, другим было достаточно культурной программы в качестве компенсации за труды. Также выделялись средства на оформление визы (тоже половина стоимости). Длительный период времени ежегодный членский взнос для стран Восточной Европы также был меньше. Нам помогали литературой.
Всего в России прошли три программы, организованные при поддержке международного сообщества, ЕАТА и МАТА. Первая программа курировалась Моник Тунинсен (РТSТА) и Дженни Макнамарой (ТSТА). Вторая программа была образовательной, то есть в ее рамках изучалось применение транзактного анализа для воспитания и изучения как детей, так и взрослых. Ее возглавляла Труди Ньютон. Третий этап — вторая клиническая программа, которую вела Анита Маунтин.
Лекция Клода Штайнера в СПГУ. Переводчица — Юлия Гамзинат
— Кто и как создавал Этический кодекс?
— В период, когда создавался этический кодекс, я находилась на должности председателя этического комитета СИТА. Я писала основную структуру текста Этического кодекса. Эта структура сначала обсуждалась на этическом комитете, затем на совете СИТА и потом коллективно утверждалась на совете СИТА. По сути дела, наш кодекс — это документ, над которым работала команда специалистов. Это Елена Соболева, Владимир Гусаковский, Татьяна Сизикова, Олег Сус, Ольга Смищенко, Диана Юдина, Елена Гамзина… Прошу прощения, если кого-то не упомянула.
Я в то время была председателем этического комитета, Лена Соболева — Президентом СИТА, Татьяна Сизикова — делегатом в ЕАТА от России. Олег Сус жил в Питере и позднее переместился в Рязань; Владимир Гусаковский перевел кодексы зарубежных организаций на русский язык, чтобы у нас были образцы. Также он привез из Европы некоторые теории, и они были использованы для построения кодекса. С Татьяной Сизиковой мы вместе работали над определениями основных понятий. Я вела переписку с Барбарой Классен, по предложениям, связанным с вопросами этики к новому кодексу ЕАТА. Также Татьяна Сизикова как делегат СИТА и РАТА привозила из Европы всякие новые веяния, в частности концепцию разных меньшинств — сексуального*, экономического, гендерного*, возрастного, религиозного и т.п.
Очень интересную концепцию в Россию привез Владимир Гусаковский — автором ее является Робин Вулфорд. Робин предложил разделить этические постулаты на принципы и правила. Это различие оказалось важным: принципы задают направление, но их выполнение невозможно проследить напрямую, тогда как правила можно наблюдать через конкретное поведение.
Если внимательно рассмотреть этические нормы, зафиксированные в Книге тренинга, становится видно, что там нет четкого различия — все смешано: где-то формулируются принципы, где-то правила. В нашем же кодексе этики это разграничение сделано более ясно: перечислены принципы, а к каждому из них добавлены поддерживающие правила, раскрывающие, как эти принципы реализуются на практике.
Во время моего председательства наша организация также участвовала в пересмотре Этического кодекса Европейской Ассоциации Транзактного Анализа. Мы внесли существенный вклад — пусть он пока и не зафиксирован в официальной летописи ЕАТА, но он был. В частности, ссылки на Декларацию прав человека были переданы от имени нашей организации; идея принадлежит мне.
Елена Соболева разрабатывала для кодекса раздел, связанный с деонтологией, а Татьяна Сизикова помогала с формулировками и определениями.По сути, создание российского и европейского кодексов шло почти параллельно — и в этом тоже есть свой исторический смысл.
— Были ли в этом процессе споры, разногласия, сложные решения?
— В принципе, внутри организации мы как-то быстро находили хорошие решения. Сложные вопросы возникали в основном не внутри организации, а с другими организациями, в большей степени с ЕАТА. Возникало впечатление, что имеет место обесценивание нас как специалистов, потому что наши предложения по кодексу этики не принимались в расчет. У нас было несколько очень хороших предложений по кодексу этики ЕАТА.
Одно из них касалось формулировки, которая открывала пространство для игры и манипуляции: «Этический кодекс создается для того, чтобы помочь специалистам этично использовать транзактный анализ». Такая формулировка будто бы допускает, что если ты работаешь не в рамках ТА, а используешь другие подходы, то этика как бы и не обязательна.
Тогда председателем этического комитета ЕАТА была Барбара Классен (Швейцария). Я писала ей, но долго не получала ответа. Лишь после того, как я упомянула, что взяла у Труди Ньютон супервизию по этому вопросу и что она поддержала мою точку зрения, Барбара вышла на связь.
— Какие идеи ТА прижились в российской среде легко, а какие требовали «перевода» — не только языкового, но и культурного? Контракт, структура личности, жизненный сценарий — как они воспринимались?
— Поскольку в системе ценностей российской культуры прочно прописаны такие ценности, как коллективизм, взаимопомощь, жертвенность, общее благо, мне кажется, нам свойственны трудности понимания и использования концепции драматического треугольника Карпмана.
— Как на развитие ТА в России повлияли встречи с зарубежными коллегами?
— У развития российского ТА была одна уникальная особенность: к нам приезжало очень много тренеров из разных стран и школ. Мы имели редкую возможность видеть разнообразие теоретических подходов, стилей работы с клиентом и группой, манер преподавания. Как говорится, все флаги в гости были к нам — даже из ЮАР приезжала Диана Шмуклер.
Это, безусловно, обогатило наш опыт, но, возможно, именно это многообразие сделало сложнее задачу интеграции единой, целостной картины транзактного анализа.
С другой стороны, если говорить о ключевых фигурах, я бы поставила в центр Дженни МакНамару — супервизора Моники Тунинсен. Ее влияние было глубоким. Можно сказать, ее сценарий частично стал сценарием и для российского ТА.
— Кто особенно произвел на вас впечатление?
— На меня большое впечатление произвел своей стойкостью Джонн Парр. К нам должна была прилететь преподаватель из Индии Сари Ван Поэлье, но почти перед самым вылетом она заболела, кажется гриппом, и попросила Джона Парра, своего друга (как он нам потом рассказал), выручить ее и полететь в Россию преподавать вместо нее. И он согласился.
И вот мы и Джон Парр начали делать работу по групповому административному и учебному контракту. И мы два дня барахтались и никак не могли найти. Когда контракт, как нам казалось, был полностью сформулирован, Джон Парр сказал: «Нет, ребята, вы еще одну вещь забыли… пока не напишете, мы дальше не движемся! И баста!» Он терпеливо два дня ждал, пока мы сами увидим, что именно нужно добавить в контракт…
Оказалось, что один из участников группы открыто вел видеосъемку семинара. И все молчали! И только в конце второго дня, когда все собирались уже расходиться, кто-то тихонечко, робко сказал: «Мне не нравится, что меня снимают…» То есть в группе более тридцати человек, никто не слышал свои потребности и тем более не мог их выразить! И в конце семинара обнаруживается факт, что никто из участников не позаботился о себе в этом отношении. Кажется, мы остались еще на час и доделали контракт в той части, которая касается видеозаписей и аудиозаписей.
Еще след в моей душе оставил Вильям Ламмерс. Тем, что он плакал, услышав мою историю… Впоследствии я дала себе разрешение плакать, если история клиента затрагивала меня эмоционально.
— Какая история, связанная с развитием ТА в России, должна быть рассказана, но еще не рассказана?
— Я хотела бы рассказать об одной женщине — американском психологе Мириам Берк (PhD). Не знаю, кто именно «открыл» ее имя, но с ее помощью я хочу напомнить: транзактный анализ — это гуманистическое направление, и те, кто привозил ТА в Россию, несли эту гуманистичность в умах, сердцах и поступках.
ТА в России не развился бы, если бы мы платили за обучение его реальную цену. Почти все приезжали без оплаты, иногда даже за свой счет. Если кто-то был в Европе — принимали у себя дома, делились книгами. Мириам каждый раз привозила две огромные сумки с вещами — брюки, платья, туфли — и раздавала женщинам на семинарах. Она подарила мне простое кольцо — позолоченное сверху. Я храню его как память о ней.
Мириам не была транзактным аналитиком, но развивала собственные идеи, близкие по духу. Она приезжала несколько раз и показывала, как работать в терапии через образ Христа. Как-то один из коллег сказал: «Люди порой причиняют друг другу такую боль, что исцеление возможно только через Бога. Человеческих сил не хватает». И это правда. Мириам показала, как можно работать с этим, и я использую это в своей практике.
Она подарила мне свою книгу, еще не переведенную, но я применяю ее идеи. Возможно, эти идеи нашли отклик и у других специалистов. В книге описана концепция «первичной травмы» — конфликта между эго-состояниями, который возникает у ребенка около трех лет, когда развивается речь, но еще не сформирован интеллект. Я рассказала об этом через сказку, опубликованную в приложении к совместной книге с Ириной Андрейченко.
И пусть Мириам формально не была ТА-аналитиком — для меня она входит в число тех, кто стоял у истоков ТА в России. Она была рядом, когда закладывались его основы.
С Мириам Берк
— Вы были знакомы с Клодом Штайнером. Какие чувства вызывает память об этой встрече?
— Да, я была с ним в переписке, так как мы с Еленой Соболевой переводили на русский язык его статью из журнала TAJ об экономии поглаживаний. Когда Клод Штайнер приехал в Санкт-Петербург, я сопровождала его и его жену в течение двух дней: организовывала через РПО (Российское психологическое общество) его лекции в двух академических учреждениях — в РГПУ и на факультете психологии СПбГУ, так как Клод хотел прочитать лекции бесплатно, для широкой аудитории.
Я возила Клода и его жену по Санкт-Петербургу на такси, сопровождала, слушала его комментарии — и столкнулась с неожиданно трудным опытом. Он был недоволен приемом и организацией, не понимал, скольких усилий это нам стоило, — вероятно, сработали культурные различия. Мне казалось, я буквально вылезла из кожи, чтобы все устроить, а он этого не увидел. Его манера общения оказалась для меня неожиданно грубой: он с поразительной точностью и частотой раздавал негативные поглаживания.
Это было непросто. К концу поездки я уже с трудом сдерживала слезы. Но все же — я преодолела это. Он подарил мне свою книгу, написанную в 1998 году, и, перечитывая ее позже, я поняла, насколько глубоко он чувствовал и как точно предвидел многое. Его тексты — это не только психология, но и пророчество. Он был человеком боли. И, как это бывает с пророками, он был суров.
Я прощаю ему резкость. Потому что гениальность и человеческая мягкость не всегда идут рядом. Как память о нем я храню две его книги — одну с автографом, другую в электронном виде. И я восхищаюсь его научной смелостью — так же, как и смелостью Алана Джакобса2. Эти двое писали о том, как человечеством управляют через игры, и это требовало мужества.
Позже, познакомившись с концепцией минициклов, я нашла объяснение этому опыту: в профессии человек может быть более зрелым, чем в жизни. Потому что профессиональный путь начинается из более здоровой позиции — даже если в личном поведении остаются незрелые реакции.
— Если оглянуться назад, как бы вы описали сценарий развития транзактного анализа в России?
— В первые годы развитие транзактного анализа в России проходило в условиях ограниченных возможностей. Необходимо было смотреть вперед чуть дальше, чем мы это делали. Отсутствие плана характерно для детского эго-состояния. Разве кто-нибудь думал о том, как мы будем его развивать, когда сдадим экзамены? Правда, у нас была промежуточная задача — подготовиться и сдать письменный и устный экзамен.
Каким образом мы отыскиваем и продвигаем научные идеи, продвигаем философию ТА в культуре.
(архив Марины Соковниной)
— Когда вы вспоминаете первую программу ТА в России, какой опыт был для вас самым противоречивым? Что открылось позже, с расстояния лет?
— Сейчас, оглядываясь на все это с расстояния времени, открывается то, что раньше ускользало. Обучение, которое мы получали, казалось огромным — даже огромнейшим подарком: Дженни МакНамара и Моник Тунинсен даже распечатывали все рабочие материалы заранее в Англии — по 12 экземпляров для нашей учебной группы — и везли их на самолете в Россию.
И одновременно в условиях дефицита ресурсов были приняты ошибочные решения. Хотя первично при формировании было сказано руководителями, что каждому из 12 участников будет назначен принципиальный супервизор, но в итоге принципиального супервизора получила только одна студентка — Татьяна Сизикова. А спасала программу Мэри Кокс, взяв на себя студентов: двух из Петербурга (Владимира Гусаковского и Елену Соболеву) и из Рязани (Наталью Бондареву, Андрея Ховрачева).
Сейчас я вижу это как эксплуатацию: группа платила за участие в семинарах одинаково, но «приз» — полноценное сопровождение — получили только избранные. Когда в середине процесса односторонне меняется контракт, это уже не просто неудобство — это вход в большую игру.
К концу программы я подошла к Моник Тунинсен с просьбой заключить со мной учебный контракт для подготовки к экзаменам. Она отказалась. Я спросила: «Почему?» Она ответила: «Мои планы изменились». Но мои-то не изменились. И если бы я не спросила, я бы так и не узнала об этом. Это и есть суть нарушения контракта: молчаливая смена условий в одностороннем порядке.
— Что было для вас самым трудным в обучении?
— Одной из самых больших трудностей для многих (не для всех, конечно) стала супервизия. Многие столкнулись с этим форматом учебной работы впервые. Трудность носила прежде всего эмоциональный характер: я, как и многие другие, ужасно боялась быть уличенной в ошибке. Между тем в ТА анализ собственной работы и рефлексия считаются важной частью профессионального роста.
Второй сложностью было то, что наша инициативная группа была небольшой, всего около двадцати пяти человек, и часто мы оказывались в ситуации двойных отношений. Это оказалось отдельной наукой — учиться, работать и обучать других, учитывая одновременно профессиональные и учебные связи. Например, я старалась избегать двойных отношений. Я приняла для себя решение ходить на индивидуальную терапию не к специалисту по ТА, а к гештальт-терапевту, поскольку занимала в СИТА общественные должности и хотела избежать пересечений.
Немалой трудностью были и финансовые вопросы. Заработать деньги на обучение было непросто, и у меня не было твердой уверенности, что получится доучиться до конца. Каждый семинар становился для меня маленьким чудом: я каким-то образом снова и снова находила средства, чтобы продолжить учебу.
— Кто еще из тренеров был для вас важным и ценным? Чему вы научились, что вам запомнилось?
— С 2000 по 2004 год в России действовала образовательная программа по применению ТА в образовании под руководством Труди Ньютон. Я выполняла функции координатора учебной группы.
В европейской организации отсутствует индивидуальное членство. Есть только коллективное. Поэтому нам пришлось организоваться и зарегистрироваться. Для участия в международных программах требовалось коллективное членство. Основная учебная группа включала двенадцать человек, которые готовились к сдаче экзаменов и участвовали в терапевтической группе. Остальные могли быть слушателями на лекциях, но не участвовали в терапевтическом процессе. Так шаг за шагом выстраивалась система профессионального обучения, которая впоследствии стала основой развития транзакционного анализа в России. Времени было немного, поэтому возникало ощущение, что важно успеть воспользоваться каждой возможностью для обучения.
Естественно, это создавало определенное напряжение и дух соревнования: участники старались учиться быстрее, активно включаться в работу, продвигаться к экзаменам. Со временем ситуация изменилась. Появилось больше программ в разных городах, доступ к обучению стал шире, и вместе с этим атмосфера стала более спокойной. Постепенно на первый план вышло сотрудничество: коллеги стали обмениваться материалами, поддерживать друг друга, объединяться для совместных проектов. Акцент сместился с личных достижений на развитие профессионального сообщества в целом.
— Внедрялся ли ТА в практику?
— Да, транзактный анализ внедрялся в практику и адаптировался к российскому менталитету. Наибольший вклад в этот процесс, на мой взгляд, внес Дмитрий Шустов. Наши психологи, работающие или работавшие в системе образования, тоже, как говорится, не лыком шиты. Марина Соковнина, Валентина Бондарева, Ольга Смищенко, Елена Гамзина внесли огромный вклад в адаптацию ТА в российское образование. Посмотрите их статьи, программы, семинары.
— Какими путями шло формирование сертификации ТА в России?
— Для российского ТА, на мой взгляд, характерна высокая степень ориентированности на международные стандарты сертификации в ТА. В то же время разработаны внутрироссийские стандарты. С учетом того обстоятельства, что многие специалисты не готовы к международной сертификации и эффективно используют ТА в своей практике, разработаны стандарты внутренней сертификации присвоения званий «Практик ТА» и «Продвинутый практик ТА»3.
В настоящее время специалист, имеющий высшее образование, имеет право использовать в своей работе любые методы психологических и педагогических направлений, за исключением тех направлений, которые запрещены законом. Транзактный анализ не запрещен; более того, по представлению В. Гусаковского, ТА был рассмотрен руководством ОППЛ как один из методов психотерапии и признан в рамках ОППЛ. Была организована отдельная секция.
— Если подвести итог, что вы чувствуете и о чем вы думаете, размышляя о пройденном пути?
— Я думаю, размышляю о сделанных ошибках, повлекших за собой потери и нереализованные возможности. Кроме законов, открытых Клодом Штайнером относительно поглаживаний, есть еще законы о функционировании поглаживаний в условиях группы. Отношение обучающего тренера должно быть одинаковым ко всем членам группы, в противном случае отношения в группе будут нездоровыми., а сами поглаживания не будут работать так, как должны.
Если бы я сейчас обнаружила это, то не оставила бы без внимания и обязательно сказала бы и руководителю, и тренеру. В этическом кодексе этот принцип назван принципом равных возможностей — в рамках первой программы равных возможностей не было. С одной стороны, принятое решение выглядело как единственно правильное: довести до сдачи экзамена хотя бы одного тренера, чтобы затем он обучил других на русском языке. С другой стороны, в жертву приносились отношения в профессиональном сообществе, это было не так явно, не так заметно, это шло как скрытый процесс, который, с моей точки зрения, продолжается до сих пор. И он может быть преодолен. Джон Парр обнаружил это в нашей группе и показал, насколько тогда мы не умели слушать свои потребности.
— Как вы видите будущее ТА в России?
— Мне кажется, самое интересное впереди. Мы все-таки вышли из этапа выживания и можем теперь строить новые отношения, используя организационную концепцию Аниты Маунтин — «Концепция процветания».
Предыдущий опыт показал, насколько важно, чтобы специалисты разобрались в своих собственных сценариях: тогда у них появится возможность не пропускать свой сценарий в отношениях организации.
Поглаживания как стимулы обучения и развития не работают в условиях неравных возможностей и неравных отношений, в том числе и в учебной группе. Обучение будет давать маленькую эффективность, как в первой программе. Это важно учитывать тренерам сейчас и в будущем.
СПРАВКА ЖУРНАЛА «ТА В РОССИИ»
Марина Соломоновна СОКОВНИНА
Педагог, психолог клинической специализации, одна из основателей (учредителей) СИТА и участник первой клинической программы, входит в состав совета СИТА в настоящее время. Сертификат «Продвинутого практика», утвержденный в СИТА. В течение 10 лет занимала пост председателя Этической комиссии СИТА, участвовала в пересмотре этического кодекса ЕАТА. Лауреат Всероссийского конкурса образовательных программ за 2014 г. Преподавала в Высшей Школе Экономики педагогику, педагогическую психологию, введение в психотерапию, введение в транзактный анализ, педагогическую практику. Вела краткосрочные курсы повышения квалификации для учителей, психологов, педагогов-психологов, для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, от СПбАППО, супервизионную группу для педагогов-психологов Кировского района СПб, работающих с детьми. Автор более чем 40 статей и материалов по применению транзактного анализа в психотерапии и образовании и двух книг: методического пособия по воспитанию детей «Вырастаем вместе» (https://ta-book.ru/products/vv) (соавтор И. С. Андрейченко) и книги «Терапия перерешения в развитии», а также автор метафорических карт. Вступила в Российский союз писателей, автор трех поэтических сборников.
1 Санкт-Петербургский институт транзактного анализа (СИТА) стал первой в России структурой, где началось систематическое обучение ТА. Его в начале 1990-х годов зарегистрировал Дмитрий Касьянов. Поскольку тогда слово «ассоциация» в названии юридического лица требовало отдельной регистрации и значительных расходов, первые специалисты ТА выбрали форму «институт». Позднее, развиваясь, СИТА был переименован в Санкт-Петербургскую организацию транзактного анализа (СОТА), которая стала центром обучения, супервизии и профессионального сообщества ТА в России. https://ta-journal.ru/TAR/article/view/107316/81563
2 Статья Алана Якобса (Alan Jacobs) в 1996 году была удостоена премии памяти Эрика Берна в области Транзактного Анализа. «Проблемы существования: триумф над смертью и одиночеством» (Aspects of Survival: Triumph over Death and Onliness) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/036215378701700303
3 https://sitanews.ru/sertifikatsiya/11-polozhenie-o-vnutrennej-sertifikatsii
* международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
About the authors
Alsou I. Samoilova
International Institute of Developing Transactional Analysis (MIR-TA/IIDTA); HSE University
Author for correspondence.
Email: salsu@icloud.com
ORCID iD: 0009-0003-6815-2633
ResearcherId: IVU-7502-2023
practicing psychologist; student of the International Institute of Developing Transactional Analysis (MIR-TA/IIDTA) and HSE University
Russian Federation, Saint Petersburg; KazanReferences
Supplementary files