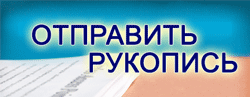Субъективное переживание тупика в психотерапевтическом взаимодействии
- Авторы: Степанова Т.А.
- Выпуск: Том 4, № 3 (2024)
- Страницы: 26-31
- Раздел: Языком науки
- Статья получена: 06.12.2024
- Статья одобрена: 06.12.2024
- Статья опубликована: 06.12.2024
- URL: https://ta-journal.ru/TAR/article/view/642604
- DOI: https://doi.org/10.56478/taruj20244326-31
- ID: 642604
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена метафорическому описанию субъективного мира человека, переживающего интрапсихический или межличностный тупик. Опираясь на работу «Тупик и близость: Применение концепции протокола сценариев Берна» Уильяма Корнелла и Мишеля Ландáша (2006), автор статьи делает краткий обзор феномена тупика, который может иметь место как во внутреннем мире клиента, так и во взаимодействии между психологом и клиентом. В последнем случае тупик выступает как межличностный процесс, который нарушает работу профессиональной диады. Уникальность проживания как индивидуального тупика, так и тупика, возникающего в терапевтических отношениях, зависит от индивидуальных бессознательных реляционных паттернов (первичных протоколов).
В статье внимание автора в большей степени обращено на субъективные переживания личности, находящейся в тупике, в том числе на примере мифологии. На протяжении своего развития человечество имело опыт нахождения в тупиках, проживание их и выход из тупиков, и этот опыт запечатлен, наряду с другими продуктами коллективного бессознательного, в мифах, легендах, сказках.
Понимание субъективного проживания тупика представляется очень важным с точки зрения того, что первичный протокол клиентом не вербализуется, поэтому образы, метафоры, метафорические истории могут помочь вывести проживание этого опыта в вербальный план, позволяют обсуждать происходящее.
Высказывания клиентов, описывающие внутреннее переживание тупика, приводятся с их согласия.
Полный текст
Тупики и первичные протоколы
Понятие тупика в транзактном анализе восходит к школе Перерешения, к работам Мэри и Роберта Гулдингов (Goulding, Goulding, 1978, 1979). Тупик — весьма изящное название для затруднения, с которым встречается клиент психолога внутри себя, когда усвоенные Родительские правила и нормы сталкиваются с потребностями и желаниями Ребенка. «Улица, не имеющая сквозного проезда», то и дело встречается на пути любого человека и приводит его к необходимости либо смириться, отказаться от своих желаний и стремлений, либо к тому, чтобы принять новое решение и двигаться дальше. В работах Эрскина (Erskine, 1978/1997), Джонсона (Johnson, 1978), Меллора (Mellor, 1980) мы видим интрапсихический тупик как конфликт между различными состояниями эго внутри психики человека.
Никто не планирует оказаться в тупике, но, оказавшись в нем, любой сталкивается с неприятными интенсивными переживаниями, которые, в зависимости от индивидуальных особенностей и степени тупика, могут быть ужасны и с трудом переносимы. Переживание интрапсихического тупика клиентом в терапии накладывает на консультирующего психолога большую ответственность. Это вызов — и профессиональный, и личностный. При прохождении третьего тупика шквал чувств и эмоций, обрушивающийся на специалиста, может быть подобен цунами.
Но еще большей нагрузкой для психолога может быть столкновение с межличностным тупиком. Термин «тупик» в психологии может употребляться и для обозначения процесса застревания в терапевтических отношениях. Это ситуация, когда взаимодействие между терапевтом и клиентом по каким-то причинам стопорится, терапевтические отношения перестают развиваться, прогрессировать. Как будто уткнувшись в невидимое препятствие, и терапевт, и клиент топчутся на месте, не в силах сдвинуться с мертвой точки и даже осознать, что с ними в данный момент происходит.
В транзактном анализе вопросом межличностного тупика занимались разные исследователи. Эрик Берн, анализируя межличностные взаимодействия и игры, в том числе касался проблемы переноса и контрпереноса, что само по себе может служить базой для изучения тупика в межличностных отношениях. Его идеи о переносе и контрпереносе можно встретить в разных его трудах. Кроме того, проблема межличностного тупика видна в работах Новеллино (Novellino, 1984), Мойзо (Moiso, 1985) и других. Боб Гулдинг обсуждал тупики с точки зрения контрпереноса терапевта.
В статье «Тупик и близость: применение концепции протокола сценариев Берна» У. Корнелл и М. Ландáш (Cornell, Landaiche, 2006) представили понимание тупика как межличностного процесса, который нарушает работу психотерапевта и клиента и препятствует выполнению контракта.
Задержимся на межличностных тупиках, которые возникают в терапевтических отношениях между терапевтом и клиентом. Отношения в терапии отличаются особым характером, продиктованным тем, что они четко регламентированы терапевтическим и административным контрактом. При этом чувства и эмоции, которые возникают между участниками терапевтических отношений, могут быть очень интенсивными. И по мере углубления терапевтической работы интенсивность чувств повышается, возникает близость с присущими ей удовольствиями, трепетом, уязвимостью и обнаженностью переживаний. Корнелл и Ландаш даже используют для терапевтических отношений термин «психологическая пара» (psychotherapeutic couple), подчеркивая эмоциональную близость и доверительный характер этого типа отношений. «Близость представляет собой спонтанное, свободное от игр чистосердечное поведение человека, осознающего окружающее, освобождение, эйдетически-воспринимающего мир глазами неиспорченного Ребенка, который со всей искренностью живет в настоящем» (Berne, 1964), —это определение, данное Эриком Берном, звучит как сокровище, к которому хочется стремиться. Но, как и любое сокровище, близость предполагает плату.
Продвигаясь к близости, участники терапевтических отношений постепенно обнажают свои индивидуальные уровни, части души, которые при формальном социальном контакте чаще всего скрыты и не выносятся на обсуждение. И это касается не только клиента, но и терапевта. Слой за слоем, как бы избавляясь от маскирующей и защищающей одежды, участники терапевтических отношений расстаются с психологическими защитами, привычными суждениями, фантазиями, иллюзиями, Родительскими предрассудками. И чем больше обнажение, тем вероятнее, что в этих отношениях «оживут» бессознательные реляционные паттерны, которые Эрик Берн называл первичными протоколами. Тогда участники могут оказаться в ситуации тупика, который будет переживаться мучительно и приводить к остановке продуктивной совместной работы, а, может быть, и к несвоевременному разрыву терапевтических отношений. Первичные протоколы имеют отношение к раннему опыту, практически не осознаются и приводят к разрушительным последствиям, отнимая у участников контакта возможность свободно рассуждать и анализировать ситуацию, вместо этого погружая их в ранние паттерны поведения и чувствования, которые на данном этапе жизни уже не предоставляют ни защиты, ни возможности двигаться дальше в отношениях. И при этом клиент не может полагаться на ресурс профессионала, который сам ограничен собственными первичными протоколами (Cornell, Landaiche, 2006 р. 197–198).
Механизм, при помощи которого первичные протоколы запускаются в контакте, может быть описан с использованием понятия переноса, как некоего отражения предыдущего опыта клиента, и контрпереноса, как процесса терапевта, возникающего в ответ на перенос. При взаимодействии клиент предъявляет терапевту свои эмоции, чувства и ожидания, не исходя из ситуации «здесь и сейчас», а основываясь на каком-то своем прошлом опыте, и получается, что он видит перед собой не реального человека, а некую проекцию своего прошлого, и взаимодействует с этой проекцией, как когда-то происходило в его раннем опыте. Если же терапевт подключается к этому и тоже отвечает из своих более ранних проекций, возникает межличностный процесс, который легко заходит в тупик, когда участники общаются и реагируют не в соответствии с реальностью, а исключительно из более раннего опыта.
Петрушка Кларксон описывает этот процесс так: когда происходит встреча двух людей, каждый из участников общения не видит перед собой новую незнакомую личность, а видит экран, на котором каждый проигрывает свой собственный конкретный фильм (Clarkson, 1991, р. 100).
Кларксон также пишет о том, что скрытые транзакции в коммуникации могут иметь силу гипнотической индукции и упоминает в связи с этим Уоткинса (Watkins, 1954), который размышлял о сходстве между гипнотическим трансом и переносом: бессознательные прогнозы, ожидания могут приводить в действия старые паттерны поведения, действуя как гипноз. Терапевт в какой-то мере защищен от такого воздействия своей личной терапией и супервизией и даже может использовать информацию, полученную в контрпереносном процессе, на пользу своему клиенту. Эта информация может помочь лучшему пониманию сценария клиента. Такая объективность требует значительного самопознания, регулярного наблюдения и удовлетворенности в своей личной жизни. Тем не менее, все перечисленное не является гарантией того, что терапевт сможет избежать соприкосновения со своим первичным протоколом.
Корнелл и Ландáш (2006) показывают, что в моменты глубоких терапевтических изменений возникает некая неизвестная земля, тревожная ситуация, где не годятся старые поведенческие шаблоны. Это важнейшие моменты, во время которых возможен прорыв, принятие новых решений, личностный рост, все то, ради чего и осуществляется работа психолога. И в эти важных ситуациях часто возникает повышенная уязвимость к повторному возникновению ранних реляционных паттернов (первичных протоколов). Эти протоколы были когда-то выработаны в детстве для управления тревогой перед лицом неизвестного. И, к сожалению, когда первичный протокол возникает в рабочей паре, тупик гораздо более вероятен, чем трансформация и рост.
В отличие от сценария, протокол не может быть когнитивно изменен, перерешен или переписан. Его (протокол) можно только осознать, понять, прожить изнутри и изменить поведение, как следствие действия протокола, через новый жизненный опыт, который клиент может получить через новые ощущения в теле. Особенность протокола состоит в том, что он запускается вне сознания и действует автоматически. Решения, которые лежат в основе протокола, были приняты младенцем при первых встречах со значимыми фигурами и не осознавались, эти решения отразились на соматическом уровне и в отношениях к значимым фигурам, они не осознаются, ими невозможно управлять, и в близких, интимных отношениях эти протоколы могут быть внезапно вызваны (Cornell, Landaiche, 2006 р. 202–204).
Таким образом, межличностный тупик, вызываемый возникновением первичных протоколов во взаимодействии психолога и клиента, может иметь индивидуальные особенности, продиктованные особенностями первичных протоколов. Субъективные переживания в таком тупике у обеих сторон будут отличаться, но это будет в любом случае восприниматься как ловушка, в которой возможен только один доступный способ реагирования. Возникает ситуация, в которой участники реагируют повторяющимися, иногда непродуктивными способами, как будто каждая сторона знает только одно действие в данных обстоятельствах.
Субъективные переживания межличностного или интрапсихического тупика могут быть очень сильными. И главной особенностью тупика, вызванного проживанием первичного протокола, является проблемность его вербализации. Первичные протоколы возникли в жизни человека в том возрасте, когда жизнь осмысливалась бессознательно и опыт запечатлевался не при помощи слов. Поведение, основанное на протоколе, не является игровым, скрытым способом коммуникации, а представляет собой глубоко убедительную, неявную (бессловесную) память о первичных реляционных моделях, пережитых через непосредственность телесного опыта (Cornell, Landaiche, 2006 р. 204–205).
Миф о сошествии Инанны как метафора переживания тупика в психотерапии
Безусловно, человечество имело опыт нахождения в тупиках не только в век психотерапии, но и значительно раньше. Можно говорить о том, что мифы, легенды, сказки несут в себе огромный материал коллективного бессознательного человечества, в том числе опыт проживания тупиков. Понимание субъективного проживания тупика представляется очень важным с точки зрения того, что первичный протокол клиентом не вербализуется, поэтому образы, метафоры, метафорические истории могут помочь вывести проживание этого опыта в вербальный план, позволяют обсуждать происходящее.
Во многих легендах мы сталкиваемся с тем, что герой попадает в тяжелую ситуацию, из которой нет выхода. В некоторых волшебных русских народных сказках герой, жертва предательства, оказывается в темнице или ему отрубают голову, он гибнет в бою и лежит бездыханный до тех пор, пока его помощник, наставник или случайный прохожий не оживят его при помощи Живой воды: например, в сказках «Три царства — медное, серебряное и золотое», «Иван Царевич и Серый Волк» и других (Пропп, 1928).
Иногда межличностный тупик в сказках отражается через противостояние героя и антагониста, тогда разрешение ситуации происходит через гибель одного из них. Есть и другие примеры, когда антагонист может превратиться в помощника, как происходит иногда с Бабой Ягой, но это происходит только тогда, когда герой справляется со сценарной ролью и ведет себя неожиданным образом, «сходит с рельс», поступает не так, как другие поступают в подобных обстоятельствах.
Один из древних месопотамских мифов повествует о том, как богиня неба и земли Инанна спускается в нижний мир к своей сестре Эрешкигаль. Она вынуждена идти туда на тех же условиях, что и любая умершая душа. Требуется пройти сквозь семь подземных врат, на каждых вратах ей приходится оставлять свои царские одежды и атрибуты. В итоге Инанна предстает перед троном царицы нижнего мира Эрешкигаль абсолютно нагая, укутанная только своими волосами. И Эрешкигаль, восседающая в окружении судей и демонов, кричит на Инанну, а судьи смотрят на нее взглядом смерти, и Инанна умирает. После этого тело ее вешают на крюк, где оно висит и гниет. Но затем Инанна переживает возрождение: ее снимают с крюка и оживляют при помощи воды и зерна двое бесполых существ, посланных небесным божеством, которое сотворило их из земли из-под своих ногтей. Эти существа, в силу того, что они бесполы, могли спокойно и без вреда для себя спуститься в подземное царство. Инанна вышла из этого испытания другой, и многое изменилось на земле и в ее судьбе благодаря этому (Зубов, 2012).
Давайте пофантазируем и представим, что миф об Инанне символически показывает добровольный отказ клиента в терапии от защит. Тогда символический смысл каждой потери будет выглядеть удивительно. На первых вратах Инанна лишается «короны равнин» — это то, что дает ей статус царицы, владелицы и повелительницы земель Междуречья. Человек, начиная работу с психологом, отказывается от своего статуса и уровня влияния в обществе, это первый уровень и первая потеря, в кабинете психолога бессмысленно требовать к себе особого отношения, если ты депутат или хозяин крупной компании.
На вторых вратах Инанна отдает привратникам свой жезл из лазурита — это тоже символ власти и силы, которую эта власть дает. В терапии клиент тоже как бы лишается силы, возможности силой решать свою проблему, здесь не помогут агрессия, нетерпимость.
Третьи врата забирают у Инанны ожерелье из лазурита — это можно рассматривать как символ принадлежности к роду, преемственности поколений, в нашем понимании — символ Родительских предписаний. В ожерелье вместе с отданными на четвертых вратах «сверкающими на груди каменьями» я вижу символ родительских предрассудков, запретов, предписаний, того, что должно защитить ребенка, по мнению родителей, от опасностей этой жизни и обеспечить передачу опыта от поколения к поколению. Но нередко именно эти родительские «защиты» могут мешать близости и спонтанности.
Пятые врата — и с руки Инанны снимают золотое кольцо, символ супружеского статуса. В терапии при проживании тупика этот статус также перестает иметь значение: спрятаться за маской жены или мужа тоже становится невозможно. Подвергается сомнению и конфронтации все, что в обычной жизни представляется незыблемым и надежным.
Шестые врата — на них остается нагрудник Инанны, то, что защищает сердце. Без нагрудника она уязвима для любого оружия. И, наконец, на седьмых вратах привратники забирают всю ее одежду, то, что делает человека индивидуальным, отличающимся от других, последнее убежище плоти. Не остается ничего между трепещущей душой и взглядом демонов подземного царства.
В терапии процесс обнажения души является двусторонним: психотерапевт тоже снимает свои защиты. И в какой-то момент переживания и чувства первичного протокола могут оказаться в деле, захлестнуть и терапевта, и клиента — и запустить процесс, который перенесет профессиональную работу на адский крюк в пещеру демонов.
Древние мифы и легенды не уделяют внимания субъективным переживаниям героев. Чем глубже в веках легенды отстоят от нашего времени, тем меньше в них упоминаний об индивидуальных, личностных особенностях героев, об их внутренних переживаниях. Мы можем только строить предположения о мотивах и внутренних побуждениях или предполагать, что чувствовала Инанна, когда отдавала все свои защиты, атрибуты и символы, понимая, что лишается силы и возможности сопротивляться, становится полностью уязвимой.
Клиент в терапии тоже проходит врата, на которых ему приходится постепенно отказываться от своих защит, убеждений, пересматривать свои установки, оспаривать ценности. Годами, десятилетиями выстроенная система психологических защит, броня убеждений «Я»-концепции подвергается оспариванию; иллюзии и фантазии об этом мире, все то, что представляет надежную защиту сценария клиента, начинает трещать по швам.
Этот непростой процесс затрагивает и терапевта. Активизация первичных протоколов у обоих участников терапевтических отношений не обязательна, но возможна. И если это происходит, тогда возникает межличностный тупик, выйти из которого удается, чаще всего, только при вмешательстве третьей стороны. Иногда это супервизор, или, как в примере Уильяма Корнелла, совершенно посторонний человек.
В мифе о сошествии Инанны в подземный мир много метафорического материала, который может быть использован в работе, вызвать эмоциональный отклик, обсуждение которого может помочь выйти на прямое обсуждение опыта и переживаний клиента. Сравните миф с высказываниями клиентов, переживающих прохождение интрапсихического или межличностного тупика, они описывают свои переживания следующим образом:
«Я никогда не смогу найти покой, мне будет больно всю мою жизнь».
«Я чувствую себя на берегу озера печали, я как будто должна вычерпать его ложкой, и я буду здесь, пока этого не сделаю».
«Я как будто голая перед всем миром».
«Я за стеклом, в бутылке, я вижу вокруг людей и мир, но я не могу соприкоснуться с ними, между нами непреодолимая преграда».
«Я на поле боя, стою с кровавым мечом в руках, готовая упасть замертво от усталости, и вижу, что мир, который я защищала, лежит в руинах».
Иногда образы, возникающие в тупике, и правда, напоминают сошествие в ад или царство мертвых и нахождение там. На мой взгляд, консультирующему психологу, психотерапевту необходимо обращать внимание на субъективные переживания тупика и обращаться к архетипическому наследию человечества в своей работе. Соприкосновение с этими образами поможет удержаться от ухода в интеллектуализацию и избегания близости в работе, а также это может помочь увидеть тупик в межличностном взаимодействии и найти из него выход.
Кроме того, важно еще раз подчеркнуть необходимость личной терапии и супервизий в работе консультирующего психолога (психотерапевта): чем больше у специалиста «закрытых», недоступных тем, чем меньше осознания собственных бессознательных процессов и непонимания первичных протоколов, тем вероятнее, что в работе с клиентами возникнут межличностные тупики, которые, в том числе, могут проявляться как застой в работе, невозможность двигаться дальше и осознавать происходящее, как уход в интеллектуализации, избегание близости и в итоге — как причинение вреда клиенту.
Об авторах
Татьяна Александровна Степанова
Автор, ответственный за переписку.
Email: tasik73@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-9945-4043
ResearcherId: IVU-7591-2023
психолог, преподаватель психологии, ОСППК (Общественный Совет по Проблеме Подросткового Курения)
РоссияСписок литературы
- Зубов А.Б. (2012) Предание об Инанне и Думузи // [Лекция] URL:https://predanie.ru/zubov-andrey-borisovich/religiya-mesopotamii-lekcii-2012-g/slushat/ (Дата обращения: 08.11.2024).
- Кэмпбэлл, Дж. (2021) Тысячеликийгерой. СПб.: Питер.
- Пропп, В.Я. (1928) «Морфология волшебной сказки». Ленинград: Academia. URL: https://imwerden.de/pdf/propp_morfologiya_skazki_academia_1928_text.pdf (Дата обращения: 08.11.2024).
- Якунин, К.А., Коваль, О.М., Рачин, А.П. (2004) Перенос и контрперенос в психологическом консультировании и психотерапии // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perenos-i-kontrperenos-v-psihologicheskom-konsultirovanii-i-psihoterapii (Дата обращения: 08.11.2024).
- Berne E. (1964) Games People Play: The Psychology of Human Relationships. New York: Grove Press.
- Clarkson P. (1991) Through the Looking Glass: Explorations in Transference and Countertransference // Transactional Analysis Journal. 21 (2). pp. 99–107. DOI: https://doi.org/10.1177/036215379102100205
- Cornell, W.F., Landaiche, N.M. (2006) Impasse and Intimacy: Applying Berne’s Concept of Script Protocol // Transactional Analysis Journal. 36 (3). pp. 196–213. DOI: https://doi.org/10.1177/036215370603600304
- Diamond, G., Liddle, H.A. (1996) Resolving a Therapeutic Impasse Between Parents and Adolescents in Multidimensional Family Therapy // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 64 (3). pp. 481–488. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-006X.64.3.481
- Erskine, R.G. (1997) Fourth-degree Impasse // In R.G. Erskine, ”Theories and Methods of an Integrative Transactional Analysis: A Volume of Selected Articles”. pp. 147–148. San Francisco: TA Press. Original work published in 1978.
- Goulding, M.M., Goulding, R.L. (1979) Changing Lives Through Redecision Therapy. New York: Brunner/Mazel.
- Goulding, R.L., Goulding, M.M. (1978) The Power Is in the Patient: A TA/gestalt Approach to Psychotherapy (P. McCormick, Ed.). San Francisco: TA Press.
- Johnson, L.M. (1978) Imprinting: A Variable In Script Analysis // Transactional Analysis Journal. 8 (2). pp.110–115.
- Mellor, K. (1980) Impasses: A Developmental And Structural Understanding // Transactional Analysis Journal. 10 (3). pp. 213–220.
- Moiso, C.M. (1985) Ego States and Transference // Transactional Analysis Journal. 15 (3). pp. 194–201.
- Novellino, M. (1984) Self-analysis of Countertransference in Integrative Transactional Analysis // Transactional Analysis Journal. 14 (1). pp. 63–67.
- Watkins, J.G. (1954) Tranceand Transference // Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2 (4). pp. 284–290.
Дополнительные файлы